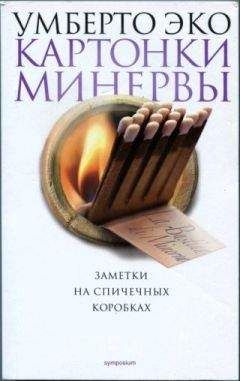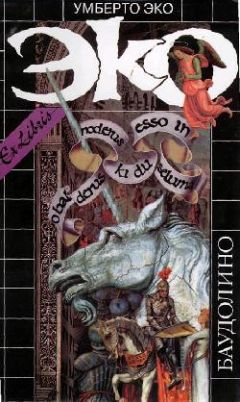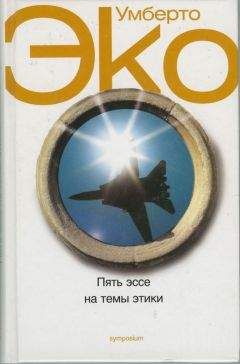Если вы отправляете рукопись в издательство при каком-нибудь американском университете (так называемые University Press), на издание книги уходит два года. За это время они делают полный эдитинг. Какая-нибудь глупость все равно ускользнет, но гораздо меньше, чем у нас. Эти два года работы стоят денег. Если же ваша цель выйти на книжный рынок с самыми свежими книгами или вы не можете себе позволить платить редактору, заслуживающему этого имени, — профессия редактора отмирает.
Поскольку, для того чтобы как следует все проверить, надо прочесть каждую строку, и поскольку автор ошибается чаще других, а редактор может ничего не знать об Авиценне, рукопись и гранки следует вычитывать разным людям, обращающим внимание на разные вещи. Такое еще бывает в издательствах, устроенных по семейному принципу, где текст заинтересованно обсуждается на всех стадиях. Но едва ли возможно в больших фирмах, где книги готовятся как на конвейере. Выход из положения в новых условиях — передавать книги в появляющиеся сейчас специальные студии эдитинга, где их любовно проверят слово за словом.
1997
Дело не в том, что я не написал на прошлой неделе свою «картонку», а в том, что по разнообразным и сложным причинам не смог ее отослать. Речь в ней шла о совещании, организованном 14 февраля на венецианском Биеннале по поводу слияния и сосуществования в одном произведении различных видов искусств как о типичной характеристике нашего века. По этому поводу я сказал (и не все со мной согласились), что типичная характеристика современного искусства — вовсе не слияние различных его видов, потому что в этом нет ничего нового, а скорее принципиально новая цель, к которой стремится подобное слияние.
Я приводил примеры, от греческой трагедии (слово, действие, мимика, маски, музыка, архитектура) до барочных празднеств, включая в этот ряд и литургию, прекрасную торжественную мессу, в которой участвуют слово, пение, жесты, облачение; кроме того, прихожане взаимодействуют со священником, чьи слова или жесты побуждают к действию (заставляют подняться со скамьи, преклонить колени, ответить); немалую роль играет и сценография — свет, проникающий сквозь витражи, дрожащее пламя свечей, запах ладана. Этим я не хотел сказать, будто вечер в дискотеке (стробоскопические огни, танец, музыка, слово, движения и запахи тоже) равен церковной литургии, — нет, дискотека имеет больше общего с манифестациями, о которых говорил в Венеции Питер Гринуэй[233]: с теми, что захватывают весь город, и на каждом углу с помощью бесконечно варьирующихся средств творятся многочисленные, разнообразные действа, потенциально не имеющие конца.
И вот мне показалось, что различие следует проводить между законченными произведениями (будь то опера в вагнеровском стиле или обычный роман, изданный без иллюстраций) и действами-потоками, не имеющими начала и конца, из-за которых само понятие автора переживает кризис. Если угодно, предвестником подобных беспрестанно струящихся действ-потоков можно назвать «Эйнштейна на пляже»[234] Уилсона и Фосса: этот спектакль шел много часов, публика могла посмотреть кусочек, выйти, потом вернуться; потенциально эта вещь могла длиться до бесконечности, если бы только выдержали актеры. И все же в какой-то момент произведение кончалось, а значит, имитировало, предвещало возможность потока, но не являлось примером такового. Не являлось еще и потому, что в потоке должны участвовать все, уничтожая разницу между автором и потребителем.
Это никак не связано с моим давним концептом «открытого произведения», ибо открытым произведением может быть и сонет, имеющий начало и конец, и книга объемом в пятьсот страниц — важно, чтобы они поддавались различным прочтениям и интерпретациям. Но открытые произведения, о которых я тогда говорил, даже концерты и симфонии, которые в чем-то варьируются от вечера к вечеру по воле исполнителей, имеют пределы: попросту говоря, в какой-то момент они заканчиваются.
Ближе всего к потоку стоит действо, которое разворачивалось в борделях Нового Орлеана и из которого возникла такая разновидность джаза, как «джем-сейшн». На намять приходят диски, которые так или иначе передают для нас те давно прошедшие вечера; но надо иметь в виду, что обычно исполнителей специально приглашают на запись, и они в каком-то смысле подводят итог, придают завершенность тому, что первоначально не имело границ, то есть сочиняют музыкальное произведение, которое напоминает «джем-сейшн», но не является таковым. «Джем-сейшн» струится потоком потому, что в игру могут вступать все новые и новые музыканты; потому, что музыка связана с тем, что происходит в заведении; она может длиться вечно: люди входят, когда хотят, едят, пьют, выходят покурить, возвращаются, и это тоже является частью игры. Если вы запишете один час такого представления, а потом выпустите диск, получится произведение, а не действо, или завершенный образец действа-потока.
Представления-потоки артистичны, даже весьма креативны, они создают то, что одно время называли «рассеянной эстетикой», живут за счет коллективных вложений, и трудно установить, кто является их автором или авторами (разве что человек, который придумал идею и запустил цепную реакцию). Но они создаются не для того, чтобы их созерцать и интерпретировать, а для того, чтобы их проживать. Горе тому, кто выйдет из круга, чтобы посмотреть. Они не имеют ничего общего с произведениями другого типа, когда читателя или зрителя подталкивают к диалогу с чем-то уже сделанным, пусть сколь угодно туманно и беспредметно; и все-таки его понуждают к интерпретации, а иногда, как в романах или драмах (лирических или нет), сталкивают его лицом к лицу с образом судьбы, которую наметил для него кто-то другой. Нет никаких причин к тому, чтобы эти два типа художественного опыта не могли сосуществовать.
1998
Так что такое постмодернизм?
Постмодернизм — одно из самых сбивающих с толку слов, какое только можно придумать. Не только потому, что разные авторы вкладывают в него разный смысл, но и еще и потому, что многие из тех, кого считают постмодернистами, обижаются, когда им это говорят (правда, не все; некоторые радуются). Чтобы объяснить такую реакцию, стоит заметить, что те, кто, рассуждая о постмодерне, открыто отрицает само существование этого феномена, тем самым являют собой удручающий его пример.
Поскольку библиография сочинений о постмодернизме необъятна (больше, правда, в других странах, а не в Италии), тому, кто хочет получить общее представление о предмете, я могу рекомендовать книгу Гаэтано Киурацци «Постмодернизм», только что вышедшую в серии «Современная философия» издательства «Парвия».
Киурацци начинает свое изложение с попытки перечислить те характеристики современности, то есть модернистской эпохи, которые постмодернизм доводит до завершения и отрицает. Современная эпоха, отсчет которой мы договоримся начинать с Возрождения, выработала миф о неизбежном и бесконечном прогрессе, концепцию свободы как последовательного раскрепощения, идеал преобладания естественного начала. Она отдавала предпочтение количественным, экспериментальным методам в науке, старалась обобщать опыт, обращалась к строгим умозаключениям и верила в универсальный разум.
Но все больше и больше мы обнаруживаем себя в постмодернистской ситуации — когда идея прогресса выносится на обсуждение; больше нет доверия философским «большим повествованиям», старающимся однозначно объяснить историческое развитие; отношения между человеком и природой подвергаются пересмотру, как в экологическом движении; ставятся под вопрос твердая вера в универсальный разум, эффективность строгих и количественных методов и идея раскрепощения как всеобщего равенства (последние мифы в этом ряду — идея американского «плавильного котла» и советского коммунизма). Предпочтение скорее отдается идеям плюрализма, уважения к различиям, фрагментации политических групп, их проницаемости. Причина и следствие всего этого — падение больших идеологий.
На мой взгляд, это вполне добросовестное изложение, — и так же честно приводятся теории противников постмодернизма, таких как Хабермас и Джеймсон. Но все равно во всех этих рассуждениях подспудно подразумевается одно утверждение. А именно: что постмодернизм — это, безусловно, единый феномен, объединяющий философов, архитекторов, романистов, художников, феминисток, гомосексуалистов, телезрителей, интернетчиков, этнические меньшинства и адептов нью-эйджа. Я же уверен, что среди «прав на различие», типичных для постмодернизма, должно также существовать право на существование, как минимум, двух постмодернизмов: одного — изобретенного архитекторами и позднее принятого в литературе, и второго — изобретенного философами. Я согласен с одним из тех, кто ввел это понятие в искусствоведение, — Чарльзом Дженксом, который говорил, что если будет преувеличением сказать, что между двумя видами постмодернизма мало общего, то уж по крайней мере между ними немало различий.