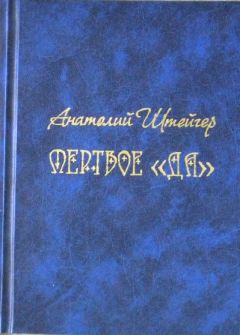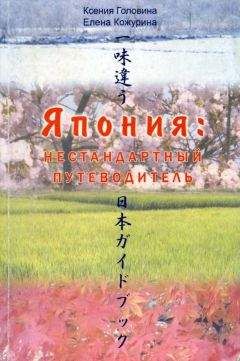Тогда физически вид будет таков:
Шестидесятые ч и с т ы е годы
— смотрите, как хорошо.
А — русские — они всё равно — русские, не-русских (таких) не было, и если русские — не выходит противовеса ерунде. Говорю Вам как себе, собственности на слова нет, и — равно как в вопросе нашей встречи — не будем считаться копейками, которые (копейки или слова) нам все равно не принадлежат (вот — зажигалка моя мне принадлежала — верней: я — ей — когда меня прожигала), не будем этими малостями мешать возникновению вещи — встречи или стихотворения, — но третьего, которое больше нас.
Возвращаясь к первой транскрипции:
Ваша (да еще нарочитая) confusion [путаница — фр.] — словесных штампов — и простых обиходных выражений — и бессмертных понятий — больше, чем неудачная — невозможная. Вы хотите быть понятым вопреки себе, вопреки знакам, и смыслу слов, — a rebours [наоборот, навыворот — фр.]. Это можно только в любви, в дружбе — нельзя. Не можете же Вы рассчитывать на точь-в-точь такого же как Вы (чего и в любви не бывает), даже не на близнеца: на двойника. Лучший читатель — только абсолютный друг, а абсолютный читатель — только любящий, т. е. все равно — другой, непременно — другой: для того и другой — чтобы любить. (Себя не любят.)
Если я усумнилась, то что же будет — с любым, с первым встречным?
— Я не для него пишу. — Нет, здесь — для него и о нем, ибо кто же лежит в больнице, сидит в тюрьме и т. д., как не Ваш первый встречный читатель — и подзащитный? Но — его защищая и о нем вопия — делайте это так, чтобы он первый Вас понял, чтобы он, по крайней мере, Вас — понял: ведь это — тоже помощь! (Память.) (Как одна меня безумно любившая молодая женщина — смертельно-больная и совершенно-нищая — мне — из своих далёких: со своих высоких — Пиренеи: — Марина! Я не могу вернуть Вам чешского иждивения, я не могу послать Вам ни франка, но я изо всех сил — из моих последних сил, Марина, — не-престанно, день и ночь о Вас думаю.[144])
Что же Вы, со своим безымянным подзащитным, своими кавычками — делаете?
Простой умирающий (русский шофёр в госпитале — а сколько их — госпиталей и шофёров!) Ваши стихи примет как последний плевок на голову (с бельведера Вашего поэтического величия). — Стоило жить!
Нет, друг, оставьте темноты — для любви. Для защиты — нужна прямая речь. Да — да, нет — нет, а что больше — есть от лукавого.
Вы приводите строки Г. Иванова: Хорошо, что нет Царя — Хорошо, что нет России[145]. — Если стихи (я их не помню) сводятся к тому, что хорошо, что нет ничего — они сразу — понятны, — первому встречному понятны, ибо имеют только один смысл: о т ч а я н и я.
Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться
И никогда не видать зоркого солнца лучей.
Если ж родился — скорее сокрыться под своды Аида
И под покровом лежать тяжко-огромной земли[146].
Эти стихи какого-то древнейшего греческого поэта — мы все писали.
Нет, друг, защита, как нападение, должна быть прямая, это из мужских чувств, это не чувство — а acte [действие — фр.]. (И Ваши эти стихи — acte), а acte не может иметь двух смыслов — иначе Вы сами не обрадуетесь — какие у Вас окажутся единомышленники, и иначе сама Cause и Chose [причина и вещь — фр.] от Вас отвернется: своего защитника не узнает.
Тут умственные — словесные — и даже самые кровоточащие игры — неуместны. Направляя нож в себя. Вы сквозь себя — проскакиваете — и попадаете в То, за что… (готовы умереть). Нельзя.
<…>
23
Chateaud’Arcine, 12-го сентября 1936 г., суббота (мой любимый день — и день моего рождения: с субботы на воскресенье в полночь. Мать выбрала субботу, т. е. назад).
<…>
О роде Вашего поэтического дара — в другой раз. Пока же — скажу: у Вас аскетический дар. Служебный. Затворнический.
Бог Вам дал дар и — к нему — затвор.
<…>
26
<…>
Chateaud’Arcine, 15-го сентября 1936 г. — вторник — чердак — под шум потока
О Вашем Париже — жалею. Там — сгорите. Париж, после Праги, худший город по туберкулезу — в нем заболевают и здоровые — а больные в нем умирают — Вы это знаете.
Ницца для туберкулеза — после гор — вредна. Жара — вредна. Раньше, леча ею — убивали. Так убили и мою мать, но может быть она счастливее, что тогда — умерла.
Может быть Вы — внутри, — больнее чем я думала и верила — хотела видеть и верить? Ибо ждать от Адамовича откровения в третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть? До чего — не быть!
Если Вы — поэтический Монпарнас — зачем я Вам? От видения Вас среди — да все равно среди кого — я — отвращаюсь. Но и это — ничего: чем меньше нужна Вам буду — я (а я не нужна — когда нужно такое: Монпарнас меня исключает) тем меньше нужны мне будете — Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей — и невозвратно. Она без меня блистательно обошлась — и этим выбрала — и выбыла. И только жалость осталась (на всякий случай) — и помощь (во всяком) — и добрые пожелания.
Без меня — не значит без присутствия, значит — без присутствия меня — в себе. А я — это прежде всего уединение. Человек от себя бегущий — от меня бежит. Ко мне же идущий — к себе идет: за собой, как за кладом: внутрь себя: внутрь себя — земли, и себя — моря, и себя — крови, и себя — души.
Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью — постольку пренебрегаю — духовной. «Нищие духом» не для меня. («А разве Вас не трогает, что человек говорит одно, а делает другое, что презирает даже дантовскую любовь к Беатриче, а сам влюбляется в первую встречную, — разве Вам от этого не тепло?» — мне — когда-то — в берлинском кафе — Эренбург. И я, холоднее звезды: — НЕТ.)[147]
И Вам — нет. На все, что в Вас немощь — нет. Руку помощи — да, созерцать Вас в ничтожестве — нет[148]. Я этого просто не сумею: ноги сами вынесут — как всегда выносили из всех ложных — не моих — положений:
Und dort bin ich gelogen — wo ich gebogen bin.
[Ибо где я согнут — я солган…(Пер. с нем. М. Цветаевой)].
Я не идолопоклонник, я только визионер[149].
МЦ.
Спасибо за Raron[150]. Спасибо за целое лето. Спасибо за правду.
Behut Dich Gott! — es war zu schon gewesen —
Behut Dich Gott — es hat nicht sollen sein.
[Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно!
Храни тебя Бог, этому не суждено было быть. (Пер. с нем. М. Цветаевой.]
27
<СЕНТЯБРЬ 1936 ГОДА, ВАНВ>
[ПИСЬМО ОТПРАВЛЕНО НЕ БЫЛО.]
<…> Мне для дружбы, или, что то же, — службы — нужен здоровый корень. Дружба и снисхождение, только жаление — унижение. Я не Бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший или по крайней мере равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно — равенство усилия. Мне совершенно все равно, сколько Вы можете поднять, мне важно — сколько Вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если в Вас этого хотения нет, нам нечего с Вами делать.
Я всю жизнь нянчилась с немощными, с нехотящими мочь, и если меня от этого не убыло, то только потому, что меня, должно быть, вообще убыть не может; если меня от этого не убыло, тем от меня — не прибыло. С мертвым грузом нехотения мне делать нечего, ибо это единственный, которого мне не поднять.
Если бы Вы ехали в Париж — в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне[151] — я бы поняла; ехали бы туда самосжигаться на том, творческом. Вашем костре — я бы приветствовала. Если бы Вы ехали в Париж — за собственным одиночеством, как 23-летний Рильке, оставивший о Париже бессмертные слова: «Я всегда слышал, что это — город, где живут, по-моему — это город, где умирают»[152] — ехали в свое одиночество, я бы протянула Вам обе руки, которые тут же бы опустила: будь один!
Но Вы едете к Адамовичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто — в ничто, в богему, которая пустота больша я, чем ничто; сгорать ни за что — ни во чью славу, ни для чьего даже тепла — как Вы можете, Вы, поэт!
От богемы меня тошнит — любой, от Мюргера[153] до наших дней; назвать Вам разницу? Тогда, у тех, был надрыв с гитарой, теперь — с «напитками» и наркотиками, а это для меня — помойная яма, свалочное место, — и смерть Поплавского, случайно перенюхавшего героина (!!! NB! всё, что осталось от «героя») — для меня не трагедия, а пожатие плеч. Не жаль, убей меня Бог, — не жаль. И умри Вы завтра от того же — не жаль будет.