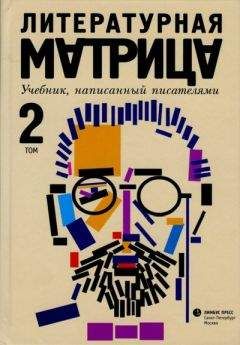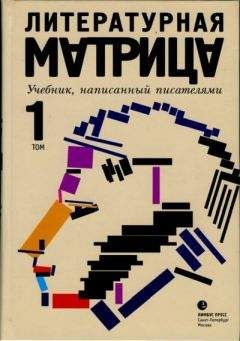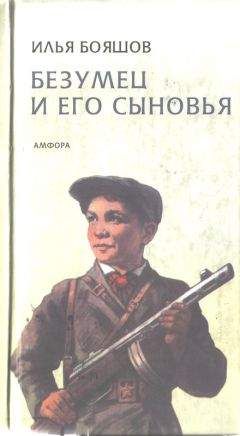Этот пафос (выбор и утверждение своею, в противо-фазе к общедоступному и/или актуальному) определил начало ее писательской судьбы — и, как выяснилось, заодно и вечную стратегию — отдельности, противостояния любой фигурной скобке, любой среде, литературной или бытовой, из тех, что предлагала ей жизнь. А поскольку жизнь была — тяжелее некуда, то статическое стояние-против быстро стало открытой (или закрытой — запертой на долгие десятилетия в цветаевском архиве) конфронтацией — стрельбой по перемещающейся мишени. Это кредо провозглашалось ею еще в юношеском, 1908 года, письме: «…против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма… против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!» Цветаева отступила от него лишь однажды, в середине 1920-х, когда ее работа на мгновение оказалась или показалась актуальной — вписанной в литературный контекст, а не выламывающейся из него, — но длилось это недолго.
Последовательное утверждение своей инаковости долгое время казалось нужным еще и потому, ito внешняя рамка собственной судьбы поначалу виделась Цветаевой недостаточно драматической, слишком благополучной, «слишком розовой и юной»[189] — как и собственная молодая розовость, как и быстро и навсегда — при крайней близорукости — отставленные очки. То, что сколько-то лет спустя, при берлинской встрече с Андреем Белым станет для нее паролем общего родного бывшего («Вы — дочь профессора Цветаева. А я — сын профессора Бугаева. Вы — дочь профессора, и я сын профессора. Вы — дочь, я — сын»[190]), было признаком ненавистного типического: московской барышни из приличной семьи, «с запросами» и со стихами. Своих и свое Цветаева узнавала по печати одиночества и отдельности; в автобиографической прозе «Черт» (1935) она напишет о сводной сестре: «…она после Екатерининского института поступила на Женские Курсы Герье (…), а потом в социал-демократическую партию, а потом в учительницы Козловской гимназии, а потом в танцевальную студию, — вообще всю жизнь пропоступала. Верная же примета его (черта, да и самой Цветаевой. — М. С) любимцев — полная разобщенность, отродясь и отвсюду — выключенность».
Цветаева поступает — иначе, шаг за шагом отодвигаясь от любой общественности или общности. 1912:
«…меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха[191]. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду».[192] 1918: «Я действительно, абсолютно, до мозга костей, — вне сословия, профессии, ранга. — За царем — цари, за нищими — нищие, за мной — пустота». 1920: «Тоска по Блоку, как тоска по тому, кого не долюбила во сне. — А что проще? — Подойти: я такая-то… Обещай мне за это всю любовь Блока — не подойду. — Такая». 1926: «Ни к какому литературному направлению не принадлежала и не принадлежу». 1932: «Никто на меня не похож и я ни на кого, посему советовать мне то или иное — бессмысленно»[193]. И — 1935-й, время предпоследних оценок: «Я сама выбрала мир нечеловеков, что же мне роптать?»[194]
Ее литературный дебют уже демонстрирует прямизну и жесткость этой — навек негнущейся — складки: первая, полудетская книга Цветаевой «Вечерний альбом» опубликована за свой счет тиражом в пятьсот экземпляров; жест, значивший тогда примерно то же, что и сегодня: либо крайнюю авторскую наивность, либо крайнюю же степень вызова, — отказ от принятых механизмов литературного роста, неприятие или безразличие к возможной профессиональной оценке. Жест, по тогдашним временам, радикальный тем более, что редкий для людей ее круга литературных знакомств и возможностей.
Новый шаг, логически следующий за этим, — пренебрежение литературой, уход в частную жизнь (вернее — не-выход из нее). То есть еще один жест великолепного презрения. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плачу, наряжаюсь — и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр(имер), вот Чурилин[195], например), поэты. Такое отношение заражало: оттого мне все сходило — и никто со мной не считался. (…) Оттого я есмь и буду без имени». В 1923 году, когда писалось это письмо Пастернаку, воспоминание задним числом окрашивалось Цветаевой в уже привычные ей тона горечи — но десять лет назад такая («голова с заносом») позиция казалась естественной. Жизнь радостно подбросила ей такую возможность.
В том же 1923 году Цветаева записывает в дневнике: «Личная жизнь, т. е. жизнь моя в жизни (т. е. в днях и местах) не удалась. Это надо понять и принять. Думаю — 30-летний опыт (ибо не удалась сразу) достаточен. Причин несколько. Главная в том, что я — я. Вторая: ранняя встреча с человеком из прекрасных — прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, но осуществившаяся в браке. (Попросту: слишком ранний брак с слишком молодым. [Пометка] 1933 г.)» В черновиках «Тезея»[196] есть еще одна запись, рифмующаяся с этой: «Брак, где оба хороши — доблестное, добровольное и обоюдное мучение (-чительство)».
Ранняя встреча и ранний брак, предопределивший все дальнейшее течение цветаевской жизни и, возможно, ее исход, были подарком из подарков — но, как водится, с двойным дном. Сергей Эфрон, встреченный девятнадцатилетней Цветаевой в волошинском Коктебеле и разом выбранный в мужья «в вечности — не на бумаге», был человеком исключительной внутренней красоты и благородства; их он и пронес, как стигматы[197], через всю жизнь, полную обстоятельств, с красотой и благородством плохо совмещающихся.
То, как рассказывала себе и другим их общую историю Цветаева, выделяло в ней как главное неизбежность, обреченность друг на друга. Судьбы двух детей, встретившихся на коктебельском пляже (рассказчица склонна была видеть их еще младшими, чем они были на самом деле — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя) складывались воедино, как половинки пазла: одиночество, раннее сиротство, день рождения, который они праздновали в один день. В ряду цветаевских романов (по ходу времени все более односторонних и, что называется, виртуальных) трудно не заметить подстежки деятельной жалости, материнской (от старшей к младшему) заботы — того, что сама она называла наклоном: «желанный — жаленный — болезный!»[198]. Вышла из этой логики она, кажется, лишь однажды — в эпистолярном диалоге с Борисом Пастернаком, где речь с самого начала шла о равенстве: равносущности сил. Но обаяние женского старшинства, заставлявшее ее выбирать людей и отношения, которые можно было бы стилизовать в этом ключе, называя ровесника-Родзевича мальчиком, а более молодых (Бахраха — Тройского —
Штейгера)[199] — сыночком (или «мое дитя»), было для нее необоримым; сама она понимала это, как всегда, яснее и язвительнее всех — и подвела итог в 1936 году, эпиграфом к стихотворному циклу «Стихи сироте» (эпиграф — из стихотворения К. А. Петерсона «Сиротка»):
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту…
Гимназист Сергей Эфрон был в этом ряду первым, если не определяющим, и его жизнь (юность, туберкулез, недавнее двойное самоубийство матери и младшего брата) делала его в глазах Цветаевой задачей: долгом, взывающим об исполнении.
Но в 1912-м двоящаяся тема предназначенности-обреченности, связанная в цветаевском наследии с именем Эфрона, предъявлена только лицевой, радужной стороной. Их триумфальная молодая совместность открывает для Цветаевой новый смысловой регистр («я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично т(ак) думать — вот мое сегодня», — пишет она Волошину). Наступает время торжества: превосходных степеней, преувеличенного («то есть — во весь рост», как напишет она в «Поэме Конца») любования собой и окружающими. В эту пору, собственно, ее стихи становятся узнаваемо-цветаевскими, а ее голос обретает окончательную свободу — гуттаперчевую[200] послушность умного инструмента.
* * *
Перемена к счастью значила для Цветаевой многое; в том числе и то, что ее юношеское, дословесное «право имею» получило право на речь и стало называться «так жаждать жить!». Жизнь и тексты наводняются «земными приметами» (так должна была называться ее задуманная в 1920-х книга дневниковой прозы). Из сундуков достаются старинные, материнские и бабушкины, платья, которые — десятилетия спустя — всплывут на поверхность прощальным подарком в «Повести о Сонечке»[201]; выбирается и заказывается граммофон, обставляется собственное жилье с «подводным» синим фонарем и выходом на крышу. Эта сугубо частная жизнь, намеренно ведущаяся в стороне от (не-ведущейся) литературной, призвана быть прекрасной: конгениальной[202] стихам, которые в свою очередь призваны свидетельствовать о жизни: «…записывайте точнее! Нет ничего неважного! Говорите о своей комнате: высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы…»[203]Здесь, как и прежде, в полудневниковом «Вечернем альбоме», налицо то, что не дает говорить о Цветаевой вне контуров ее биографии — настойчивая воля, заставляющая нас искать черты авторского присутствия поверх (или поперек) текстов. То, что она, по-видимому, с самого начала имела в виду, — что-то вроде реалити-шоу в естественных декорациях — начало обретать реальный (насыщенный живой жизнью) объем. С годами действие стало напоминать ведущийся в прямом эфире, «при свете совести»[204], судебный процесс, где автор поочередно присутствует то на скамье подсудимых, то на месте общественного обвинителя. Но начальные, счастливые цветаевские годы дали ей краткую возможность сосредоточиться на внешнем, выбирая из всех возможностей — сразу все.