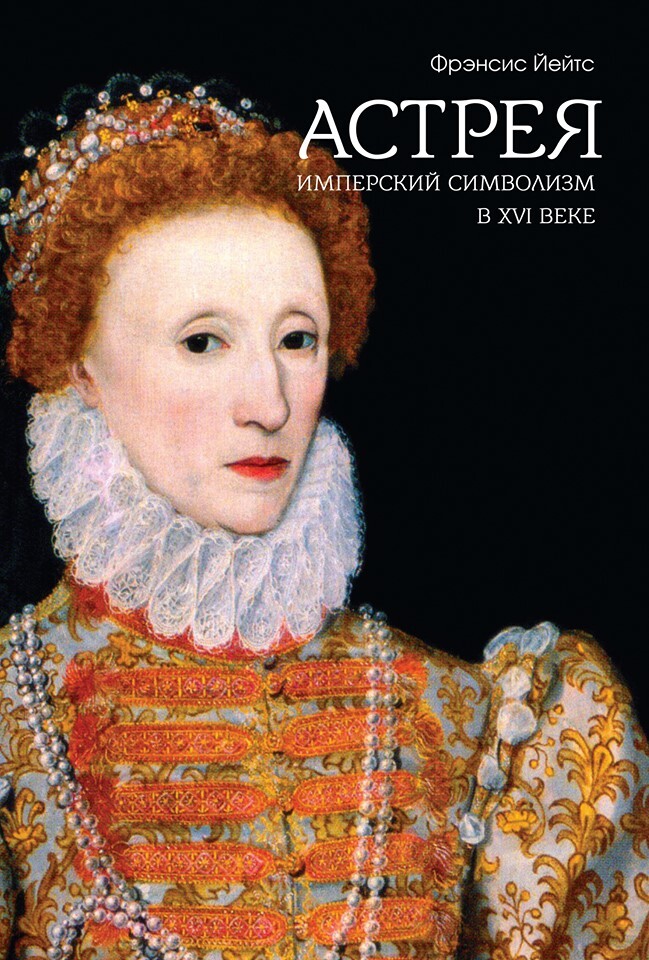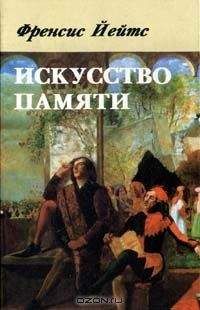И это совпадает с известным высказыванием Меркурия Трисмегиста: «Что за великое чудо человек, о Асклепий!» 352
Пико, конечно, говорит здесь о мире как о театре только в общем смысле, как о хорошо известном топосе 353. И все же в описании Театра Камилло так много отголосков «Речи», что, пожалуй, содержащееся в ее начале упоминание о герметическом человеке, правящем в театре мира, могло бы подтолкнуть к использованию формы театра для создания герметической системы памяти 354. Остается, однако, неизвестным, существовал ли у самого Пико замысел построения «театра мира», в котором получили бы выражение идеи, изложенные им в «Гептапле», подобно тому как это сделано в Театре Камилло.
Пусть это всего лишь отрывочные предположения, но мне кажется неправдоподобным, чтобы оккультная система памяти была изобретена самим Камилло. Более вероятно, что, находясь в атмосфере Венеции, он только развил внутренний смысл герметических и каббалистических влияний на структуру классического искусства памяти, которые до него в общих чертах уже были очерчены Фичино и Пико. И все же тот факт, что его Театр повсюду был принят как новое и поразительное достижение, показывает, что он был первым, кто подвел прочный фундамент под оккультную память Ренессанса. И, что касается интересов исследователя искусства памяти, его Театр – первая значительная веха в истории трансформации этого искусства под влиянием герметизма и каббалистики, свойственных ренессансному неоплатонизму.
Считается, что невозможно установить связь между оккультным преобразованием искусной памяти и ранней традицией памяти. Но обратимся еще раз к плану Театра.
Сатурн был планетой меланхолии, хорошая память была свойственна меланхолическому темпераменту, и память являлась частью благоразумия. В Театре это показано в ряду Сатурна, где на ярусе Пещеры мы видим распространенный символ времени – головы волка, льва и собаки, знаменующие прошлое, настоящее и будущее. Этот символ мог служить также символом благоразумия и трех его частей – memoria, intelligentia, prudentia – как на известной картине Тициана «Благоразумие» (ил. 8а), где человеческое лицо расположено над головами трех этих животных. Камилло, который вращался в высших литературных и художественных кругах Венеции, по слухам, знал Тициана 355, во всяком случае, должен был знать о головах этих трех животных как о символе благоразумия в его временном аспекте. Теперь, рассматривая сатурнический ряд Театра, мы понимаем, что образ изрыгающей огонь Кибелы в этом ряду на ярусе Пира означает Ад. Таким способом в Театре представлена память об Аде как часть благоразумия. Кроме того, образ Европы и Быка на ярусе Пира в ряду Юпитера означает истинную религию, или Рай. Образ Пасти Тартара на ярусе Пира у Марса означает Чистилище. Образ сферы с Десятью Кругами на ярусе Пира у Венеры – Земной Рай.
Таким образом, под роскошной ренессансной оболочкой Театра все еще живет искусная память дантовского типа. Что лежало в Театре в ларцах или ящиках под образами Ада, Чистилища, Земного Рая и Рая? Едва ли это были речи Цицерона. Наверняка они были заполнены проповедями. Или песнями «Божественной комедии». Во всяком случае, в этих образах сохраняются следы предшествующей традиции использования и интерпретации искусной памяти.
Более того, возможно, существует какая-то связь между переполохом, который Камилло вызвал своим Театром, и возрождением в Венеции интереса к доминиканской традиции памяти. Как мы уже упоминали, Лодовико Дольче, этот бойкий поставщик литературы, обещающей стать популярной, написал предисловие к собранию сочинений Камилло, включавшему L’Idea del Theatro, где он говорит о его «уме, скорее божественном, нежели человеческом». Десятью годами позже Дольче выступил с сочинением о памяти, написанном на итальянском и весьма элегантно представленном в модной форме диалога 356, где за образец взят Цицеронов трактат De oratore; имя одного из участников диалога – Гортензио – напоминает о Гортензии из сочинения Цицерона. На первый взгляд, эта небольшая, написанная на volgare книжка выдержана в духе венецианского цицеронианства – классической итальянской риторики, которая в точности соответствует стилю бембистской школы, к которой (как выяснится позднее) принадлежал и Камилло. Но что представляет собой этот выглядящий столь современным диалог о памяти, написанный Дольче, почитателем Камилло? Это перевод, или, скорее, адаптация «Кладовой» Ромберха. Косная латынь немца-доминиканца переработана в элегантный итальянский диалог, некоторые приводимые им примеры модернизированы, но основа книги – именно Ромберх. В сладких звуках «цицеронического» итальянского Дольче мы слышим схоластические пояснения, почему в памяти нужно задействовать образы. В точности воспроизведены и диаграммы Ромберха; мы снова видим его космическую диаграмму дантовской искусной памяти и отжившую свой век фигуру Грамматики, унизанную буквами наглядного алфавита.
Среди добавлений, сделанных Дольче к тексту Ромберха, есть одно, уже отмечавшееся ранее, где он указывает на Данте как на проводника, помогающего нам запомнить Ад 357. Прочие его добавления представляют собой модернизацию ромберховских рекомендаций для памяти, вводящую в обиход картины новейших художников, которые полезно использовать в качестве памятных образов. Например:
Если мы хотя бы в какой-то мере причастны искусству живописцев, мы оказываемся удачливее в создании наших памятных образов. Если хочешь запомнить миф о Европе, в качестве памятного образа можешь использовать живопись Тициана; то же и с Адонисом, и с любым другим сюжетом, профанным или сакральным, – выбирай фигуры, которые тебя восхищают и тем самым возбуждают память 358.
Таким образом, рекомендуя Дантовы образы для запоминания Ада, Дольче в то же время способствовал и обновлению памятных образов, советуя использовать изображенные Тицианом мифологические фигуры.
Публикация книги Росселия в Венеции в 1579 году – еще одно свидетельство популярности старой традиции памяти. Эта книга содержит убедительное изложение искусной памяти дантовского типа, но отражает и некоторые новейшие тенденции. Примером служит то, как Росселий выбирает выдающихся деятелей искусств и наук, чтобы «поместить» их в памяти в качестве памятных образов для этих искусств. Эту древнейшую традицию, прямо восходящую к отдаленной греческой античности, когда образ Вулкана помещали к металлургии 359, – традицию, средневековое проявление которой мы видим в ряду фигур, помещенных перед соответствующими искусствами и науками на церковной фреске, прославляющей Фому Аквинского, – продолжает Росселий:
Так, к грамматике я помещаю Лоренцо Валлу или Присциана; к риторике помещаю Марка Туллия; к диалектике – Аристотеля, его же и к философии; к теологии – Платона… к живописи – Фидия или Зевксиса… к астрологии – Атланта, Зороастра или Птолемея; Архимеда – к геометрии, к музыке – Аполлона, Орфея… 360
Стали бы мы теперь рассматривать Рафаэлеву «Афинскую школу» как полезную для нашей памяти и «помещать» изображенного на ней Платона к теологии, а Аристотеля – к философии? В том же отрывке Росселий «помещает»