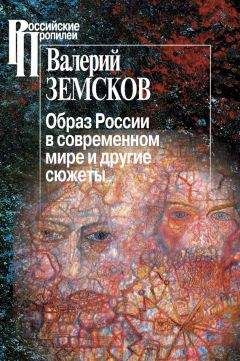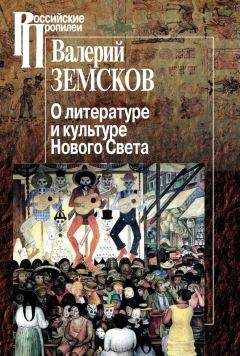В русских летописях существуют различные версии о начале экспансии в Сибирь. В большинстве летописей, хотя завоевание Сибири рассматривается как исполнение Провидения, не говорится о том, что начальный импульс исходил из Москвы. Напротив: речь идет о своеволии казака Ермака и озабоченности Ивана Грозного тем, что нарушение границ может испортить отношения с могущественным соседом – ханом Кучумом (Сибирское ханство) – это, в частности, находит отражение в письме царя купцу и промышленнику Максиму Строганову («Кунгурская летопись»). Укоряя его за то, что он помог Ермаку снарядиться в поход, царь грозит ему расправой, если поход принесет беды, но здесь же сквозит и иной мотив: в случае удачи одарен будешь.
В Строгановской же летописи, напротив, отмечается полная согласованность с престолом экспансии на восток (аргумент: защита подданных, пермяков и других, и свободной торговли с Югом – от татар и их вассалов). Из нее следует, что царь специальной грамотой дал Строгановым право на экспансию, а потом, испугавшись последствий, отрекся от этой грамоты. Таким образом, в версии Строгановых (приводящих тексты грамот с датами, именами чиновников, их писавших) отвергается романтический характер начала русской экспансии и утверждается ее программный характер. Как известно, вокруг летописи велись споры, так как вся слава и инициатива в ней приписывается Строгановым, а не Ермаку, предстающему послушным исполнителем их воли. Истина находится, видимо, посередине: была казацкая вольница и была государственная политика. Во всяком случае, столь распространенная в западной науке версия о чисто стихийном характере русского продвижения на восток достаточно наивна. Ко времени похода Ермака уже столетие существовала концепция «Москва – Третий Рим», которая, не будучи закрепленной как государственная программа, питала политику «православного, истинно христианского самодержства» в борьбе на западных границах, а теперь и на восточных. После взятия Казани поход на Урал был естественным и логическим шагом. Очевидно, что русское «авось» здесь сочеталось с прямыми интересами государства, и самое время еще раз вспомнить слова М. П. Алексеева о «возбуждающем примере» испанской конкисты[234].
Формулы конкисты и взятия Сибири очень близки, если не просто однородны: не только распространить христианскую веру, но и привести в подчинение (императору, царю) и обложить данью (взять ясак). Однако есть особенность, символически в концентрированном виде выражающая все различие в типе общественного человека, осуществлявшего экспансию. Берналь Диас дель Кастильо, испанский конкистадор, участник экспедиции Эрнана Кортеса, автор хроники «Правдивая история завоевания Новой Испании» (1557–1575), с гениальной простотой выявил важное – личностно-индивидуалистическое – начало испанской конкисты, когда дал свою формулу: «Служить Богу, его величеству, дать свет тем, кто пребывал во мраке, а также добыть богатство, которое все мы, люди, обычно стремимся обрести»[235]. Далекий от поэтизации наживы (Бартоломе де Лас Касас и другие критики конкисты создавали редуцированный образ конкистадора, когда объявляли алчность – codicia его единственным импульсом), Берналь Диас дель Кастильо просто указал на естественный индивидуалистический – материальный интерес участника конкисты.
Такой формулы нет и не может быть в русских летописях взятия Сибири по той причине, что сознание летописца, как и героя его сочинения, было иным. Конкиста Нового Света и завоевание Сибири осуществлялись разными типами общественного человека, порожденными разными культурами. Главный герой испанской конкисты – рыцарь, но не средневековый, а Нового времени; открытие и завоевание Америки – одно из ключевых событий, вызвавших изменение в его сознании. То было время разложения, распада средневековых норм и стереотипов. В разных странах Западной Европы этот процесс имел свои типовые воплощения. В испанской культуре наиболее яркие свидетельства рождения нового человека зафиксировали пикареска (первый европейский роман Нового времени) и именно испаноамериканские хроники. Критики конкисты, и прежде всего Лас Касас, развенчали этот процесс, увидев в конкисте колоссальное экономическое предприятие, в котором рыцарь превратился в грабителя, убийцу и лихоимца, который бросал вызов не только императору и его установлениям, но и Богу. Но было не только это – было и становление нового сознания, новой личности, рассчитывающей на собственную инициативу и опыт.
Автор хроник конкисты Нового Света – это новый творческий субъект, который основывался прежде всего не на жанровом и стилевом каноне, а на собственном опыте. Люди, преступившие пределы Старого Света, преступили не только социально-этические и культурные, но и литературные каноны.
Основа огромного корпуса хроник открытия и конкисты Америки – такой элементарный документальный жанр, как «реласьон», т. е. повествование, отчет, показание, которое пишется от первого лица и основано на непосредственном опыте индивида – участника событий. От писем Колумба или Кортеса до «Правдивой истории завоевания Новой Испании» Берналя Диаса дель Кастильо нет ни одного выдающегося трактата, хроники или истории, которые бы не имели личностной окраски. «Я» видел, участвовал, знаю, свидетельствую – таковы основные формулы хроник конкисты Америки. Новый творческий субъект – это новое историческое сознание. Естественно, что это сознание глубоко религиозное, насыщенное мифами и легендами, но они становятся для него не только той призмой, сквозь которую он видит новую, небывалую явь, но и объектом эксперимента, испытания на прочность. Именно в этом состоит двойственный смысл поисков Эльдорадо, земного рая, царства Амазонок…
Иная картина в русских летописях. Как уже отмечалось, Д. С. Лихачёв фиксирует в «Истории Казанской» начало важных сдвигов в восприятии и отражении исторического времени. Но это только начало – до появления русского «Дон Кихота», увенчивающего XVI век Испании, еще далеко. Русские памятники не содержат выделившейся личности, отдельного «я». Вероятно, исследователям известно не все: крайне важно было бы знать, как писались деловые отчеты («скаски»), шедшие в сибирский приказ уже в ходе завоевания Сибири, – ведь это как раз жанр, близкий к испанской «реласьон». Но для летописей характерны либо коллективное «мы» («Летопись Сибирская краткая Кунгурская», составленная на основе записок и воспоминаний участников похода Ермака), либо анонимный автор, отождествляющий себя с Провидением (как в незамысловатой Есиповской летописи), а это тоже вариант коллективного «мы». Ремезовская «История Сибирская» – наиболее яркий памятник XVII в., отмеченный творческой индивидуальностью, но не выходящий за пределы традиционного сознания. Формулу «Каков автор, таков и герой» можно читать и наоборот: «Каков герой, таков и автор».
Русь не знала рыцарства в европейском понимании, и инициатива открытия и завоевания Сибири принадлежала не центровому, а маргинальному в социальном и культурном отношении сословию – казакам, казацкой вольнице, собравшей лихих людей и удальцов с Дона, Волги и Яика во главе с Ермаком сыном Тимофеевым поволжским, как его именуют летописи. В летописях встречаются разночтения в изображении Ермака и его вольницы в зависимости от политической задачи того или иного летописца. Созданная на основе воспоминаний участников похода «Летопись Сибирская краткая Кунгурская» жестко и однозначно именует Ермака заворуем (грабителем), решившим уйти за Урал, опасаясь возмездия царских войск за грабежи и убийства на Волге. В Строгановской летописи таких жестких характеристик нет: это казак-атаман, исполнитель наказов Строгановых, в свою очередь исполняющих волю царя. В Есиповской и Ремезовской летописях, строящихся на отчетливо выраженной государственно-религиозной концепции, признанной обосновать завоевание Сибири, он вольный атаман-удалец, но внявший голосу Провидения.
В любом случае, Кортес, закончивший Саламанкский университет, и Ермак – это, конечно же, люди разного культурного уровня. Наверное, ближе Ермаку Франсиско Писарро, неграмотный завоеватель Перу, но дело в другом. Если Кортес лично писал отчеты о своем походе, то рядом с Писарро был участник похода хронист Франсиско де Херес, а вот рядом с Ермаком подобной фигуры не было. В вольнице Ермака были грамотеи, скорее всего, попы, которые, видимо, и написали письмо от имени атамана и казаков, в котором те приносили Ивану Грозному свое покаяние за преступления на Волге и преподносили ему завоеванную Сибирь.
Но главное здесь другое: это было иное творческое сознание. Испанская конкиста имела четкий исторический фон, развитую информационную сеть, основывалась на новой, складывавшейся именно в ходе конкисты историчности сознания. Повторим: субъект испанской конкисты – личность, индивидуальность. Русское завоевание Сибири было совершено вольницей (во главе которой стоял наиболее инициативный казак, но не осмысливавший себя в иной, отличной от членов вольницы системе понятий), т. е. коллективным субъектом. Испанскому «я» в русских летописях противостоит коллективное «мы» («они»), хотя персональная роль предводителя всячески выделяется.