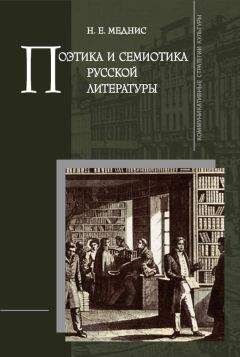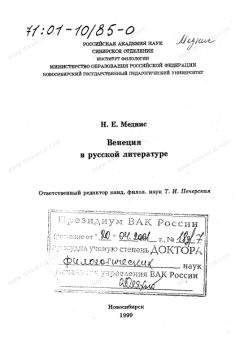72
Степанов Л. А. Об источниках образа импровизатора в «Египетских ночах». С. 169.
Kauchtschischwili N. II diario di Dar’ja Fedorovna Fiquelmont. Milano, 1968.
Гиллельсон М. И. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон. С. 16.
Степанов Л. А. Об источниках образа импровизатора в «Египетских ночах». С. 171.
Погодин М. П. Из «Дневника» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1974. Т. 2. С. 35.
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 376.
Датирование диалога концом 1824 года представляется нам наиболее вероятным, поскольку именно в это время стихотворение «Демон» получило особенно широкую известность благодаря, кроме прочего, яркому отзыву о нем В. Ф. Одоевского в следующем за публикацией четвертом выпуске «Мнемозины». Не исключено, что следствием недавнего диалога между Пушкиным и Каченовским явилась эпиграмма «Жив, жив Курилка», где стихи «Все тискает в свой непотребный лист // И старый вздор, и вздорную новинку» отражают хронологическое соотношение упомянутых Каченовским стихотворений. У Пушкина есть два стихотворения с названием «К ней», но одно из них, написанное вскоре после окончания Лицея («В печальной праздности я лиру забывал…»), при жизни Пушкина не печаталось и вряд ли могло быть известно издателю «Вестника Европы». Второе («Эливина, милый друг! Приди, подай мне руку…») было опубликовано в «Северном наблюдателе» (1817. № 11), и Каченовский имеет в виду, по всей вероятности, именно его. Соотношение 1817 и 1823 годов в 1824 году вполне соответствует для Пушкина формуле «и старый вздор, и вздорную новинку». Стихотворение «Демон» было перепечатано с исправлениями в альманахе «Северные цветы на 1825 год», и в том же году о нем высказывается Н. И. Греч в «Письмах на Кавказ» (Сын отечества. 1825. № 3), поэтому нельзя исключить отнесенность диалога и к этому году.
Вестник Европы. 1824. № 7. С. 321—323.
Вестник Европы. 1824. № 7. С. 322.
Пушкин А. С. Египетские ночи // А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 6. С. 386. Далее том и страница по этому изданию приводятся в скобках в тексте статьи.
Вестник Европы. С. 322.
Бемиг М. О генезисе образа неаполитанского импровизатора в повести А. С. Пушкина «Египетские ночи». С. 55.
Степанов Л. А. Об источниках образа импровизатора в «Египетских ночах». С. 172.
Телескоп. 1834. Ч. 24. № 5.
Степанов Л. А. Об источниках образа импровизатора в «Египетских ночах». С. 172.
Катенин П. А. Размышления и разборы. М., 1981. С. 125.
Само по себе сочетание «импровизатор-итальянец» привычно для слуха людей XIX века, но среди предполагаемых источников образа пушкинского героя из «Египетских ночей» Сгриччи единственное реальное лицо, связанное с Италией.
См. об этом: Kauchtschischwili N. II diario di Dar’ja Fedorovna Fiquelmont. P. 57.
По мнению А. Ахматовой, эту тему мог предложить импровизатору Чарский. См.: Ахматова А. А. Неизданные заметки о Пушкине // Вопр. литературы. 1970. № 1.
Лебедева О. Б. «Я неаполитанский художник…»: Личностная модификация неаполитанского мифа А. С. Пушкина в повести «Египетские ночи» // Италия в русской литературе. Новосибирск, 2007. С. 36.
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 371.
Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999.
Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина. СПб.: Академический проект, 1999. С. 271.
Киреевский И. Нечто о характере поэзии Пушкина // Московский вестник. 1828. Ч. VIII. № 6. С. 171—203. Правда, и сам Пушкин на определенном этапе работы над романом полагал, что начальные шесть глав составят только его первую часть. В отдельном издании шестой главы (1828) после нее значилось: «Конец первой части». Тем не менее, чутье критика, хорошо знакомого с пушкинской манерой письма, могло бы подсказать Киреевскому иные возможности развития и завершения романного сюжета.
В связи с этим уместно напомнить очень важное замечание Ю. М. Лотмана о том, что «текст пушкинского романа, сознательно лишенный автором признаков жанровой конструкции, воспринимается читателем на фоне этой конструкции» (Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 96). В этой сложной рецептивной ситуации отношение к роману, по крайней мере, при первом знакомстве с ним, полностью определяется силой жанровых стереотипов, присутствующих в сознании читателя.
Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и русский стихотворный роман. Новосибирск: Изд-во НГПИ, 1983.
Хаев Е. С. Проблема фрагментарности сюжета «Евгения Онегина» // Болдинские чтения. Горький, 1982. С. 42.
Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1. С. 212.
Такой крайне нежелательный случай представляется, однако, теоретически вполне возможным потому, что «Евгений Онегин», по точному замечанию Ю. М. Лотмана, принадлежит к произведениям того типа, композиция которых строится «по принципу присоединения все новых и новых эпизодов» (Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина». С. 62).
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Наука, 1964. Т. V. С. 10. Далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы приводятся в круглых скобках.
Хаев Е. С. Проблема фрагментарности сюжета «Евгения Онегина». С. 43.
Благодарю Н. А. Ермакову, обратившую внимание автора статьи на слово «пора». Ю. М. Лотман в комментарии к роману «Евгений Онегин» высказывает предположение, что Онегин, безмятежно проспав назначенный срок, с большим опозданием прибыл на место дуэли, где его давно уже ждали Ленский и Зарецкий (Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство, 1995. C. 679). Только таким образом и можно объяснить стих 4-й XXIV строфы – «Уж солнце катится высоко», поскольку 14 января (согласно романному календарю Ю. М. Лотмана), в темное время года, такое решительно невозможно в седьмом часу, когда противники должны были выехать из дома. Именно поэтому применительно к Ленскому слово пора означает момент настоящего, а в случае с Онегиным – прошлого («…пора // Давно уж…»).
В пятой главе романа слово наконец, на сей раз не повторяясь в рассредоточенных в пространстве текста эпизодах, отмечает строфу, где звучит очередное эхо сна Татьяны (первое, предваряющее сон, возникает в XLI строфе третьей главы – «Блистая взорами, Евгений // Стоит подобно грозной тени»), обретающее выражение в немотивированно резком жесте, напряженной интонации и дробном ритме – «Вдруг двери настежь. Ленский входит // И с ним Онегин» (ср. со строфой XIX пятой главы). Кроме того, это же слово вводит проекцию финальной сцены сна, связанной с гибелью Ленского, поскольку в следующих строфах – XXX, XXXI и далее – содержится мотивация, а затем своего рода обоснование вызова на дуэль. К числу таких проекций принадлежит и эпизод, где Татьяна, пусть ненадолго, становится объектом всеобщего внимания: «Конечно, не один Евгений // Смятенье Тани видеть мог». В. В. Набоков совершенно справедливо усматривает сопряжение данной сцены со сном Татьяны, отмечая присутствие в ней одного из тех «ласточкиных хвостов», которые рассыпаны по всему роману. «Сказочные упыри и химерические чудовища из сна Татьяны, – пишет он, – это те же гости из дневной жизни, которые придут к ней на именины <…>» (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство; СПБ.: Набоковский фонд, 1998. С. 407). В наши дни эта мысль стала почти хрестоматийной, но мы приводим ее, чтобы показать неслучайность появления слова наконец в XXIX строфе пятой главы. И в этой строфе, и в сне Татьяны данный эпизод следует за распахиванием двери и появлением Онегина перед взволнованной героиней, и слово наконец, усиливающее как ожидание, так и внезапность появления героя, кроме отсылки к финалу сна, указывает в пятой главе на завершение предыдущего описания и начало нового событийного витка.