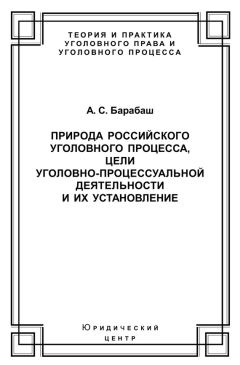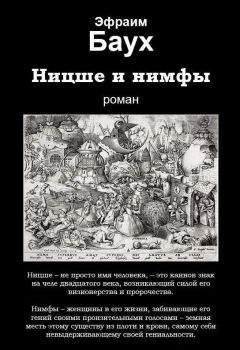Как все метафорические системы, первая часть «La Nouvelle Heloise» (книги 1—3) состоит из цепи подстановок, и, как во всех деконструктивных повествованиях, повторное чтение, вызванное исследованием этого подведения итогов, вскрывает слабость связей, сводящих воедино полярности. Отношения Юлии и Сен-Пре рассказаны как момент подстановки, в ходе которой «я» и другой постоянно обмениваются своими идентичностями, как если бы речь шла об андрогине, о существе, единство которого невозможно нарушить внутренними переносами свойств. «Приди и воссоединись со своей душой» («Vienstereuniratoi-meme» [2:146; 112]),— говорит Юлия Сен- Пре, и она для него — словно бы вездесущность, парусия более тонкой, чем воздух, стихии: «Я вижу тебя, чувствую тебя повсюду, вдыхаю тебя вместе с воздухом, которым ты дышишь. Ты проникаешь в глубь всего моего существа» (2:147; 113) — или в другом «платоническом» отрывке[253], говорится: «Я не поверил бы, что ты — земное существо, если б всепожирающий огонь, охвативший все мое существо, не сочетал меня с тобой и я не увидел, что мы горим одной страстью» (2:116; 86). Не удивительно, что их сексуальный союз связан с самого начала с образами кровосмешения. Незадолго до их первой ночи Сен-Пре скажет: «Перед посягательством на твою целомудренную красоту я бы сам содрогнулся сильней, чем перед гнуснейшим кровосмешением; и рядом со своим возлюбленным ты в такой же безопасности, как рядом с отцом своим» (2:42; 22-23). «Я более не принадлежу себе,— первым сказал Сен-Пре,— моя душа уже не принадлежит мне, она вселилась в тебя» (2:101; 74), а в ответном письме Юлия считает себя всецело принесенной в жертву другому и замененной им: «Пускай же то, чем я была, живет в тебе, я сама уже — ничто...» (2:103; 75). Эти подстановки я/другой знакомы нам по «Нарциссу» и «Пигмалиону», и их можно перенести с отношения любовников друг к другу на отношение автора и его произведения и, в конце-то концов, на отношение автора и читателя. Следующее предложение можно было бы включить в «Пигмалион» или в традицию, что стоит за ним: «Ты мне оставила частицу непостижимой прелести, живущей в твоей душе, и вместе с твоим сладостным дыханием в меня словно проникает новая душа. Так поспеши, заклинаю, завершить свое творение. Возьми у меня то, что еще осталось от моей души, и замени одной лишь своей душой» (2:150; 115).
Если подстановки в самом деле могли бы происходить, не нарушая целостности одного андрогина, они все же порождали бы другие метафоры, подтверждающие это единство в форме мифов или образов. Весь космос — неистощимый запас символов дополнительности. Но полярности, проистекающие из иллюзорной полноты, приведут к постоянно усиливающимся диссонансам и произведут совсем другую историю. Первые три книги «Юлии» — типичная версия такой истории. Они включают все постижимые конфигурации первоначальных противопоставлений, переплетенных в образцах, которым не позволено устояться, ибо когда бы ни производилась подстановка, обнаруживается порожденное избытком или недостатком новое неравновесие, требующее новых замещений.
Слишком долго прослеживать в деталях цепь преобразований, создающих часть повествования, завершающуюся последним письмом третьей части, но даже на простейшем тематическом уровне она вполне очевидна. Пространственная, топографическая структура первой половины «La nouvelle Heloise» — это последовательность некоординированных ошибочных движений, серия бегств и возвращений, запущенная самым первым предложением повествования: «И faut vous fuir, Mademoiselle, je le sens bien...»[254]. Беспрестанные приходы и уходы Сен-Пре, из Вале, в Мейери, в Париж, наконец, буквально на край света, напоминают Пигмалиона, непрерывно вышагивающего взад и вперед по своей мастерской. Они, однако, отличаются от него тем, что описанные в «Пигмалионе» движения несравнимы с танцем мотыльков кровосмешения вокруг единственного огонька, которым в данном случае становится Юлия. Иначе все атрибуты бытия были бы вложены в один из двух полюсов, и таким образом возникла бы совсем иная система, с одним-единственным центром. Даже некоторые вышеупомянутые примеры показывают, что подстановки не могут идти в одном-единственном направлении и что они должны перемещать свойства как с Сен-Пре на Юлию, так и в противоположном направлении. Географическая сумятица Сен-Пре обретает свой контрапункт в колебаниях и «langueurs»[255] состояния сознания Юлии; между его «вовне» и ее «внутри» разворачивается игра сложных и отнюдь не уравновешенных обменов.
Временной образец столь же неустойчив. Отделенный от Юлии озерной гладью Сен-Пре посылает ей своеобразную оду великолепию момента, чрезвычайно близкую традиции Петрарки. Сквозь всю книгу проходит постоянная тема — превознесение или ниспровержение прелести момента, по временам достигая высот лирической интенсивности; так, говоря о своих «днях радости и счастья» с Юлией, Сен-Пре может сказать: «Мы пребывали в каком-то упоительном самозабвении, и время для нас остановилось: мгновение стало вечностью. Ни прошлого, ни будущего для меня не существовало, я вкушал наслаждение за тысячи столетий» (2:317; 265). Возвеличивание мгновения уравновешено противоположным восхвалением длительности ради нее самой: «Чувства в конце концов угасают, а душа остается чувствительной» (2:16; 681). Длительность — это и в самом деле преимущественный модус времени в системе, стремящейся стать авторитетной и борющейся за достижение состояния уже не обмена, но подтверждения неподвластного внешней силе тождества. Это собственный временной модус длинного, однообразного и монотонного повествования, к которому, как время от времени кажется, близка «Юлия», повествования, в котором пустота обозначения уже не воспринимается как утрата. В аллегории этого типа длительность следует оценивать как привлекательность того, что, как всем известно, совершенно недостижимо. Текст, однако, не описывает эту диалектику мгновения и вечности, тожества и изменения, в которой приводящие к устойчивому синтезу соблазны мгновения становятся также соблазнами покоя. Вечность, совпадение сущего с его собственным настоящим, прибегает к словарю внутреннего мира, исключающему все иное или постороннее, не содержащему ничего такого, что было бы желанным, но еще не своим собственным. Он напоминает об исполнении, уже не связанном с желанием, поскольку желание организовано вокруг момента, отделяющего обладание от его противоположности. Сен-Пре описывает время, наступившее «после того, как он насладился любовными утехами» (2:149; 115), перенося атрибуты желания на новое, спокойное состояние: «...Я обожал тебя, но ничего более не желал... Какое умиротворение всех чувств! Какое чистое, долгое, всеобъемлющее блаженство! Завороженная душа упивалась негой,— казалось, так будет всегда, так будет вечно. Нет, не сравнить исступление страсти с этим душевным покоем» (2:149; 114). Вечность оказывается замкнутой на себя и самодостаточной, и все же она заимствует «jouissance» и «volupte» у беспокойства внешнего мира, управляемого «les fureurs de Гашоиг». Ощущения и воспоминания все так же связывают ее с этим миром («В одном возрасте приобретают опыт, в другом предаются воспоминаниям» [2:16; 681]), и именно из этой метонимической связи рождается метафорическая иллюзия длительности. Двусмысленность проявляется полностью, когда сознание как длительность вынуждено признать, что оно появилось, только пожертвовав страстью, которая первой произвела переживание внутреннего мира. В конце абзаца, из которого заимствована предыдущая цитата, Сен-Пре должен задать вовсе не риторический вопрос: «Так скажи, Юлия, быть может, прежде я не любил тебя?» (115). Обмен свойствами устойчивости и изменения порождает несчастное сознание: оно проявляется в состоянии уныния, признаний, сделанных «к великому своему стыду и унижению» (2:149; 115), что и приводит впоследствии Сен-Пре к выводу, что «мы начинаем жить сызнова, чтобы сызнова страдать; жить для нас означает одно — скорбеть» (2:326; 281). Этот модус явно несравним с состоянием вечности и покоя. Невозможно вместе с тем и смирить его при помощи воспоминаний, замещающих непосредственное присутствие, или при помощи эстетического созерцания своей собственной души, что стала «прекрасной», пожертвовав создавшей ее страстью. Если бы повествование могло обрести устойчивость подобным образом, «La nouvelle Heloise» была бы совсем другим (и куда более коротким) текстом, больше похожим на «Вертера», на главу о Миньоне из «Вильгельма Мейстера» или на «Сильви»[256].
В таком случае обращение аллегории (перипетия) происходит в виде сознательного отрицания системы аналогических обменов, структура которых совпадает со структурой повествования первой части романа. Обращение уже более не скрыто, как во «Втором рассуждении», моментом упадка, «lа pente inevitable» (2:35s)[257], описанным в повествовании о заблуждении. Оно утверждается как непререкаемое решение, резко разделяющее роман на два сегмента, на то, что было до него, и то, что будет после него, оно полностью изменяет обстоятельства и обрамление и предусматривает замечательно ясное ретроспективное видение. Аллегория невозможности прочесть начинается с превращения ее пре-текста в крайне удобочитаемый текст: в более чем ста письмах, полученных до поворотной точки, нет ни единого эпизода, практически ни единого слова, не проясненных и не пересмотренных повторным чтением, предпринять которое вынудило нас обращение. Повествование, не колеблясь, делает выводы из обнаружения своих прежних ошибок. Вместо «любви», основанной на сходствах тела и души или «я» и другого и их подстановках друг вместо друга, появляется договорное соглашение о браке, заключенное для защиты от страстей и на основании общественного и политического порядка. Это решение обретает свою нравственность, потому что идет против «естественной» логики повествования и его понимания.