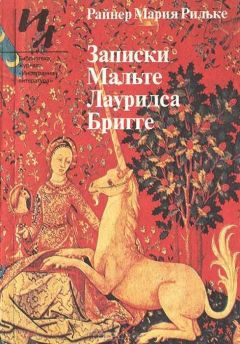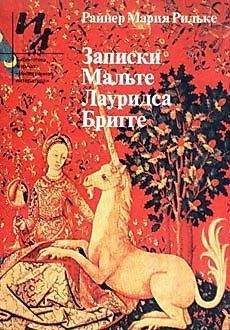Райнер Мария Рильке
Rainer Maria Rilke
Все люди любят Любящего.
Эмерсон
Я — только первый идущий туда.
«В прекрасном живущие — лишь те
из праха и встанут в красоте…»[2]
Наша воля, как вихрь — облака,
тянет нас и теснит;
ведь и сами мы — лишь тоска,
что в цвету стоит.
…но там я смею лишь тихо стать
и — глубоко вздохнуть.
Бесконечно ищущий, не имея
за спиной прошлого, я просто
ставлю опыт.
Эмерсон
Что-то простое, милое,
а над ним — высокое синее небо.
Лу
***
Из обжитого снегом края
как далёко я сослан в весну;
как робею, входя в страну,
и с сомненьем руку одну
сиянью ее подставляя.
Но, приняв этот свет, я хочу
соткать его туже —
тихо краски его разверну же
и с улыбкой эту парчу
дам Тебе неуклюже.
Я могу лишь смотреть в молчании…
А владел я когда-то словом.
И блаженство дарит заранее
каждый час в этом синем сиянии,
убаюкать меня готовом.
Как передам Тебе дни и
ночи в келье моей?
Все желанья — немые,
и на картинах святые
с меня не сводят очей.
Флоренция, 15 апреля [1898]
***
Здесь жизни жертвенник — и с тихими дарами.
Здесь день еще глубок. Здесь мрак ночей
крещальнею простерт над всеми снами.
Здесь жизнью сердце взрощено с лучами,
и все прародиной здесь было ей:
нарядность женщин, гордый блеск князей
и все мадонны — свет земных очей,
и трепет иноков пред образами…
Флоренция, 16 апреля 1898
RENAISSANCE I
Все молчаливей Язвимый шипами
терний острых со всех сторон.
Радостью люд уже возбужден:
те, из железа, красное знамя
силы подъяли на башни времен.
В белом, в глуби бредут, где страна —
предков отвагою докрасна
раскалена — мощью сверкала.
Лишь Мадонна уже устала
и у обочины села — одна.
Флоренция, 17 апреля 1898
***
Как дни мои текут, давай поговорим:
я рано выхожу на светлые виале,
расту в своих глазах, и без печали
бреду в толпе по шумным пиаццале[3],
где смуглый люд кипит, — мешаясь с ним.
И тихо я молюсь в музейной зале
мадоннам благосклонным и простым.
А ухожу, когда глаза устали, —
над Арно уж плывет вечерний дым,
и про себя рисую, глядя в дали,
я Бога золотым…
Флоренция, 18 апреля 1898
***
Гас бледный день — и вдруг, бездонны,
взыграли дали; пали в прах
перед сияньем все заслоны, —
свет проступил на всех щеках,
как будто бы во всех церквах
враз улыбнулись все мадонны.
Флоренция, 18 апреля 1898
RENAISSANCE II
И вера их была — совсем не сказка,
что руки складывать велит все вновь, —
прислушаться позвала их любовь,
молитвы строить и молиться в красках.
Пред Одиноким даль открылась: он,
найдя начальные свои же звенья,
познал, что Бог его уж возведен;
Сокрытого он вывел из сомненья
и поднял в славу, ею потрясен.
Сан Доменико близ Фьезоле, 19 апреля 1898
Довольно ли я уже спокоен и зрел, чтобы начать этот дневник, который хочу вложить в Твои руки, — этого я не знаю. Но чувствую, моя радость останется далекой и тусклой, пока — хотя бы в виде кое-каких излившихся из сердца и откровенных записей в книжке, которая посвящена Тебе, — не станет Твоим достоянием. Приступаю, и мне хочется считать добрым знаком, что это свидетельство моей тоски[4] я начинаю заносить на бумагу в дни, на целый год отстоящие от тех, когда я с такой же тоской вышел навстречу неизвестному, еще не ведая, что Ты и есть цель, к которой я, чутко внимая, готовил себя в песнях.
Уже четырнадцать дней я живу во Флоренции.
На лунгарно Серристори[5], неподалеку от Понте делле Грацие[6], стоит дом, плоский верх которого как в своей крытой, так и в раскинувшейся под небесами части принадлежит мне. Вообще-то сама комната — всего лишь передняя, от которой идет еще и лестница, ведущая на четвертый этаж, а собственно жилье представляет собой широкую, с высоким потолком каменную террасу, однако столь роскошную, что я не только прекрасно на ней устроился, но, пожалуй, даже могу достойно принять желанного гостя. Стена моей комнаты снаружи увита желтыми, зрело благоухающими розами и маленькими желтыми цветочками, похожими на дикий шиповник; только эти вздымаются по шпалерам скромней и смиренней, парами, как ангелы Фра Фьезоле, восславляющие и воспевающие Судный день. В каменных вазах под стеной пробудились бесчисленные анютины глазки, словно следящие за событиями моих дней своими теплыми, чуткими очами. Мне бы быть таким, чтобы им не пришлось разочароваться во мне, чтобы, пусть только в самые тихие мгновения моей жизни, казаться им кем-то давным-давно породнившимся с ними, свято верующим в праздник светлой весны и в маячащий где-то далеко за ним тяжко налитой, прекрасный плод. — Но как же меркнет прелесть этой стены перед светлым великолепием трех других сторон, открывающих дали — широкие, теплые, слегка стилизованные моей близорукостью, только и умеющей различать что созвучия красок да общие очертания. Щедрые утром, в блеске сотен надежд, словно трепещущие от нетерпеливого ожидания; щедрые в полдень, сытые, отяжелевшие от полученных даров; исполненные простой ясности и святого величия на исходе дня. А потом наступает миг, когда воздух становится подобен голубой стали, об которую затачиваются до остроты контуры вещей. Башни, кажется, изящнее вздымаются из волнующегося моря куполов, а зубцы Дворца Синьории словно стынут в своем застарелом упрямстве. И вот тишина накрывается звездами, а мягкий свет кротко, с робкой нежностью изливает на все кругом покой. Большое молчание, словно высокий поток, льется по улочкам и площадям, и после короткой борьбы все тонет в нем; не спит теперь только один разговор — медлительная смена гаснущих вопросов и темных ответов, сам себе отвечающий, широкий шелест: Арно и Ночь. Тоска в это время острее всего; а когда потом далеко внизу кто-то грезит на мандолине грустной песней, совсем забываешь о том, что это человек; кажется, будто что-то приходит прямо из этой широкой дали, в своем страстном и странном блаженстве не умеющей молчать. Эта песнь — словно одинокая женщина, что в глубокой ночи выкликает имя далекого возлюбленного, пытаясь втиснуть в одно узкое, бедное слово всю нежность, весь жар и все сокровища глубин своей души.
Но нарядней всего — алые вечера. Над Кашинами еще держится гаснущее зарево, и Понте Веккьо, на котором, подобно гнездам, лепятся друг к другу старинные дома, черной лентой ложится на солнечно-желтый шелк. Город расстилается, окрашенный в спокойные бурый и серый тона, а горы над Фьезоле уже несут цвета ночи. И лишь простое, милое лицо Сан Миньято аль Монте все еще в солнечных лучах, и я никогда не упускаю случая принять, словно тихую милость, всему подводящую итог, его последнюю улыбку.
Может быть, Ты будешь удивлена, но во Флоренции я не написал еще ничего, кроме нескольких неважных стихотворений, предваряющих эти строки. Дело в том, что поначалу мне все не удавалось побыть одному. Первые два дня меня весьма любезно опекал д-р Л., парижский корреспондент, помогая мне разыскать то и се, хотя, по своему обыкновению, портил мне все настроение. А как только я вселился в пансион, оказалось, что соседом моим будет кузен Энделя, профессор Б. из Берлина, и этот сюрприз стал причиной того, что отныне мне приходилось делить по меньшей мере послеобеденные часы с ним и с его женою. Конечно, эти часы нельзя считать потраченными зря — благодаря предупредительной любезности этих превосходных людей, — но они не оставили по себе заметного следа. Меж тем моя немота была вызвана не только людьми. Скорее, вещами. Хотя Флоренция раскинулась предо мною столь широко и охотно (а может быть, как раз поэтому), поначалу я был так сбит с толку, что едва мог разобрать свои впечатления и совсем уж было отчаялся выплыть из волн великого прибоя этого чуждого великолепия. И только сейчас я начинаю дышать полной грудью. Воспоминания проясняются и отделяются друг от друга, я чувствую, какой улов остался в моих сетях, и вижу, что он больше, нежели я смел надеяться. Я знаю, что стало моим достоянием, и хочу рулон за рулоном развернуть его перед Твоими милыми светлыми глазами. Со всяческим уютом, не заставляя Тебя переноситься с одного места на другое и не впадая в обстоятельность, я покажу Тебе разные вещи, расскажу, чем стали они для меня, и снова упрячу в свои закрома. Будет ли это для Тебя Флоренцией, не знаю; ведь я дам Тебе лишь то, что осозна´ю как присущее исключительно мне; да оно уже и принадлежит мне, а не светлому Городу Лилии[7]; но как бы то ни было, я нашел эту часть себя самого во Флоренции, и случайностью этого не объяснишь. Да ведь Ты и не ждешь от меня путевых заметок — полного, без пропусков и хронологически упорядоченного сообщения — правда?