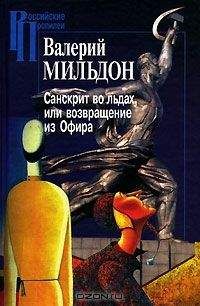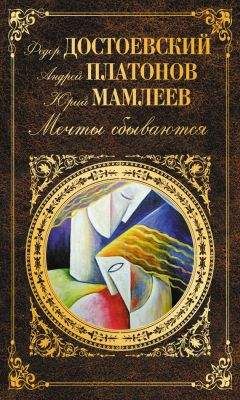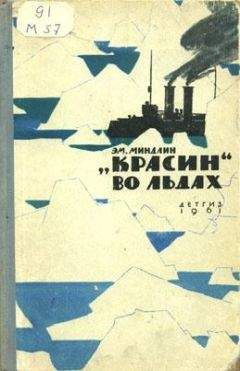(вспоминается из «Двенадцати» А. Блока: «Пальнем‑ка пулей в святую Русь»; переживания Платонова напоминают персонажей Блока — едва ли случайное совпадение).
Мы не живем, а идем, умираем, Будто мы дети другого отца. Здесь мы чужие и зажигаем Мертвую землю с конца до конца.
(«Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем» — Платонов невольно, надо полагать, перефразирует строки Блока)
Мать никакая нас не рождала…
Можно считать находкой Платонова чувство сиротства, открытое в психологии «мы», — до него, кажется, никто не обращал внимания на «духовное сиротство». Действительно, какие у «мы» отец и мать? Все вместе, без различий родственных, социальных, даже половых (последние станут для Платонова предметом глубоких беспокойств и сомнений) — «интернационал», выражаясь по — другому.
«Мы» и непреодолимая сила, и религиозная экстатика со смутными грезами о конце мира (мировом пожаре), без чего не возникнет новый, очищенный от всеобщего зла. Как раз в этом случае родственное (свое, близкое, родное) ценится меньше общего, всемирного. Что отец или мать, когда весь мир горит, тем более, и пусть горит, сироте не жалко.
Платонов ощутил связь сиротства, неприкаянности с каким‑то пренебрежением, безжалостностью к миру. Еще бы, какая жалость или сочувствие к тому, с чем у тебя нет никакой связи, близких отношений? Поэтому легко срыть горы (не задумываясь о том, а как же их жители, горские народы), раздуть пожар на весь свет, пальнуть в икону — ничего не жаль, разумеется, и самого человека.
В стихах Платонов еще не осознал психо- и онтологических результатов сиротства, но заметил его, выразил как одно из важнейших последствий «мы»:
Разум наш, как безумие, страшен<…>Мы усталое солнце потушим, Свет иной во вселенной зажжем, Людям дадим мы железные души, Планеты с пути сметем огнем.
По существу, речь идет о космической катастрофе («планеты сметем»), которая ничего не стоит людям с железной душой, «сиротам», но тогда и разум их — безумие. Однако вселенная вселенной, но там родина, дорогие места, близкие люди — их ведь тоже сметет огонь. Но какая родина у сироты? А без родных что за родина? Пожалуй, из поэтов той поры Платонов один передал это страшное последствиями чувство сироты, безродности, хотя близкие настроения попадаются в строках С. Есенина:
Если кликнет рать святая: Кинь ты Русь, живи в раю, Я скажу: не надо рая, Дайте родину мою.
Метафорически поэт признал, что родины нет: он согласен отдать даже рай, лишь бы получить (вернуть, обрести) родину. Если допустить такое толкование строк Есенина, мотив сиротства, безродности при матери — родине приобретает значение одной из черт
психологии. В творчестве Платонова такое значение не только присутствует, но играет важную роль. В «Чевенгуре» один из существеннейших мотивов — возвращение на родину, к отцу; мотив поиска родины («Чевенгур» и есть роман о поиске родины, роман о возвращении с чужбины утопии на родную землю), преодоления неизбывного сиротства, правда, мотив этот так и не получает разрешения. Отец Саши Дванова утонул, и для сына возвращение домой и обретение родины исполняется только в смерти: его родина там, где его отец, — на дне озера, и только умерев, герой оказывается дома, «живет».
Как бы ни отнестись к такому финалу, несомненно, что герой романа охвачен иными переживаниями, нежели герои стихов; что его жизненный порыв, его онтология отличны от их порыва и онтологии. У Саши и у них мало общего, и это свидетельствует: в художественном сознании самого писателя произошли изменения (как это было с Заболоцким приблизительно в те же годы, когда создавался «Чевенгур», — конец 20–х годов). Из стихотворения «К звездным товарищам»:
От ненависти — всего мы захотели, В наших топках пусть вселенная сгорит. Нет нам матери, мы жить одни посмели. Пусть гудок тревожнее гудит.
Город улетающий в сверкающем железе — Небо прорывающий таран. Мы проломим двери в голубом навесе К пролетариям планетных стран.
Вспоминает ли читатель один из образов утопии В. Ф. Одоевского «4338» — весь земной шар стал Россией? Похоже у Платонова — пролетариями заселены планеты, революция, следовательно, превратилась в космическую. Через пятьдесят лет такую картину с подробностями изобразит И. А. Ефремов в «Часе Быка»: на всех планетах Солнечной системы победил коммунистический строй, и его насаждают за пределами нашей галактики. Можно говорить об устойчивом образе русской литературной утопии — глобализме, какими бы прилагательными ни был окружен этот признак в течение ста пятидесяти лет.
В стихах Платонова нарисована устрашающая картина — автор сулит сжечь вселенную. Ради чего? Не ясно, можно лишь догадываться. Тут и упоминавшееся чувство сироты, у которого никого нет («нет нам матери»), а потому и в душе не воспиталось сострадание («от ненависти всего мы захотели»). Ненависть однообразит мир, мало с чем считается, кроме самоудовлетворения, ей хочется все разрушать, ее возбуждает кровь; либо — что едва ли не равнозначно разрушению — она хочет переделать мир по — своему. И в том и в другом случае последствия катастрофичны. Правда, ненависть эта специфична, ее вызывают лишь чужие — типичный образец племенной психологии, существенное уточнение психологии «мы»: определение идет не по индивидуальным, а по неким коллективным признакам. Опять‑таки А. Блок вспоминается: «Да, скифы мы, да, азиаты мы». Разумеется, где «мы», там конгломерат, способный вызвать восторг, ощущение безмерного могущества, лихорадочного азарта, но совершенно лишенный осознанности и своих действий и, конечно, их результатов. Это — природная стихия.
Впрочем, и со своими стихия «мы» не церемонится, для нее вообще нет ничего запретного, она вне норм этики, как природная сила. Хотя одно из стихотворений Платонов назвал «Мысль», это явная метафора — речь идет о слепых инстинктах, о власти над человеком племенного чувства:
У бездны дна теперь достанем, Сойдутся братья с больших дорог. Мысль человека стала богом, Сознанье душит зверя тьмы. На царство сядет царь убогий — Ни ты, ни я, а — мы.
(III, с. 496)
Давным — давно известно: словами говорится не только то, что хочешь сказать, но и то, чего не хочешь (а то и желал бы скрыть) или не подозреваешь вероятности иных смыслов. Так и здесь. «Достать дна у бездны» — ведь это значит «провалиться в тартарары», невозвратно исчезнуть — прямо обратное тому, что, кажется, подразумевал автор. Ну, а «братья с больших дорог» что это, как не самая первая, разумеется, ассоциация — разбойники? «В зубах — цигарка, примят картуз, // На спину б надо бубновый туз!» У Блока образ взят обдуманно, у Платонова — вопреки его расчетам, ибо грядущее царство «мы» оказывается всего — навсего разбойничьим притоном со всеми признаками бандитской солидарности и коллективизма.
И еще одно. «На царство сядет царь убогий» Платонова слишком напоминает слова «Жития Андрея Юродивого»: «В последня дни воставит Господь Бог царя от нищеты». Полагая, что житие Андрея Христа ради юродивого стало известно на Руси с XI в., нужно признать, что идея «царства убогих» удерживается у нас едва ли не тысячу лет.
Как не вспомнить Г. Флоровского: «Утопизм есть постоянный и неизбывный соблазн человеческой мысли, ее отрицательный полюс, заряженный величайшей, хотя и ядовитой энергией»[39].
Тысяча лет — немалый срок, почти вся писаная русская история, следовательно, от исторического рождения русский человек сопровождаем утопией, а посему несправедливо ждать, чтобы избавление произошло в считанные годы. Такое наследство изживается не сразу, а главное, трудно.
Цитированные строки Платонова не единственный в его стихах пример, когда несовпадение метафорического смысла с авторскими намерениями разрушает художественное содержание.
Мы под железными стонами Счастье для мира творим. Мы трудовыми подъемами Землю сжигаем и сами горим. («Субботник». III, с. 497)
Творим счастье для мира под железными стонами. Кто же стонет? Те ли, кто творит счастье и стонет от непомерной ноши, которую готовы терпеть, лишь бы избавить человечество? Или те, кому творят счастье, не спросясь с их желанием? В каждом случае оказывается, что за счастье одних платят несчастьем других.
Две последние строки походят на нечаянный прогноз: и земля сожжена трудовыми подъемами, и многие люди сгорели — в прямом и переносном смысле слова.
Наконец, в стихотворении «Май» Платонов как бы интегрирует предыдущие катастрофы в своих стихах — смерти, пожары, перекройку мира:
По земным пустыням строим Новый Город…
(III, с. 497)
Вот оно что: кошмары и тотальные несчастья (о которых автор, само собой, не помышляет, но которые следуют из его программы глобальных социальных перемен) ради Нового Города, где исполнится золотая мечта человечества о полном и окончательном счастье, сбудется утопия.