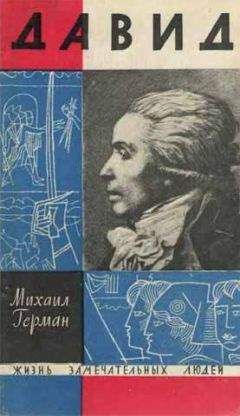антиурбанизм — естественное следствие сказанного и прямой путь к свободе от сюжета и «идейности», к овладению пленэром. Непосредственные штудии летучих, изменчивых состояний природы, эффектов света — все это куда удобнее и привычнее осуществлять наедине с пейзажем.
Но нет весов и мерок, которые помогли бы определить, чего в импрессионизме было более. А то, что воздействие Парижа было не просто велико, но, возможно, и первично, и определяюще, — столь же верно, сколь и то, что говорили и размышляли об этом мало и неохотно. Во всяком случае, даже те из импрессионистов, которые не любили жить в Париже, писали его увлеченно и с восхищением; «антиурбанистами» они вовсе не были, напротив, не уставали открывать новую красоту города.
Та живопись, которую нередко трактуют как «протоимпрессионистическую», тоже обращалась к Парижу. Столицу «предосмановской поры» писал еще Ян Бартолд Йонгкинд. Порой, как в акварели «Застава Монсо» (1851, Лувр, Кабинет рисунков), соединяя нежный, прозрачный колоризм со стремительностью линий в духе Константена Гиса, порой словно бы продолжая поэтическую монументальность парижских пейзажей Коро, дополняя ее ощущением тревожности сиюминутного состояния природы. Да и опыт английских предшественников импрессионистов — Бонингтона, Тёрнера, писавших низкие песчаные берега еще не скованной каменными набережными Сены, — формировался в Париже, уже тогда, в середине века, волновавшем приезжих художников своей изменчивой притягательностью.
Один из самых поэтичных, хотя и относительно малоизвестных французских пейзажистов Франсуа Мариус Гране писал свои восхитительные акварели, угадывая особое, парижское дрожание влажного воздуха над перламутровым городом, которое словно превращает камень в невесомую прозрачную субстанцию (акварель «Вид на павильон Флоры Лувра», 1844, Париж, Лувр). Речь не о степени воздействия его (или Бонингтона) на становление импрессионизма, но о тех особых импульсах, которые давал искусству город. Город, оттачивавший и вдохновлявший поэтические миражи только что упоминавшегося Гиса, чей стремительный карандаш и нежные, подвижные «призраки» цвета — тоже, несомненно, часть корневой системы импрессионизма.
Франсуа Мариус Гране. Вид на павильон Флоры Лувра. 1844. Акварель
Мане — более всего парижанин среди художников, «париго», «бульвардье» (насколько его живопись была импрессионистической, еще будет случай поразмышлять) — почти не писал «чистый пейзаж». Но Париж — постоянный фон, атмосфера, душа да и просто «персонаж» его полотен. Кто более парижане, чем персонажи Дега? И Париж — естественная, если не единственная среда их обитания. Клод Моне пейзажи столицы писал никак с не меньшим увлечением, чем стога на лугу, поля маков или берега Уазы. Ренуар рос в старом Париже, близ Лувра, нередко писал Париж и много — парижан, создав на все времена единственную «ренуаровскую» Парижанку; поздние, возможно самые утонченные и мощные, пейзажи Писсарро тоже вдохновлены Парижем. Что же касается Гюстава Кайботта, этого до сих пор непризнанного действительно великого мастера, то его живопись взросла на парижских мотивах, без Парижа немыслима, как и Париж уже не представить себе без воздействия его картин, без камертона его живописи.
Импрессионисты росли и мужали в Париже.
На улице Бонапарт (тогда — Малых Августинцев), в доме почти у самой набережной Малаке, прославленной потом Анатолем Франсом, родился Эдуар Мане; юношей любил он гулять по аллеям Тюильри, а в зрелые годы жил в странно неживописном, но по-своему очень парижском квартале Европы (формировавшемся вокруг одноименной площади).
Первую свою мастерскую восемнадцатилетний Дега устроил в квартире родителей на улице Мондови, что выходит на Риволи как раз у павильона Жё-де-Пом (улыбка судьбы — именно здесь был открыт веком позже Музей импрессионистов!), и окна его студии на пятом этаже смотрели на площадь Конкорд (она же — площадь Согласия).
Неподалеку, тоже в самом сердце Парижа, подростком жил и Ренуар. Сначала на улицах Библиотек и Оратуар, позднее — на Гравилье, что между улицами Тюрбиго и Тампль.
Клод Моне родился в Париже на улице Лаффит, юность провел в Гавре, а вернувшись в столицу, поселился у склона Монмартра, поблизости от церкви Нотр-Дам-де-Лоретт, рядом с которой он жил в младенчестве и где его крестили. Англичанин Сислей и тот родился в Париже, в той его восточной части, что нынче стала XI округом (между площадью Бастилии и кладбищем Пер-Лашез).
Берта Моризо (она родилась в Бурже) в Париже с пятнадцати лет. Вместе с сестрой трижды в неделю она ездила на конке от площади Конкорд до Трокадеро в мастерскую Жеффруа Шокарна, художника, дававшего им уроки. Позднее и ее семья жила близ Трокадеро, на улице Бенджамина Франклина.
Детство и отрочество Кайботта прошли в особняке на углу улиц Миромениль и Лисбон (Лиссабон), неподалеку от вокзала Сен-Лазар и площади Европы, где позднее и он, и Мане, и Клод Моне писали свои знаменитые «железнодорожные» пейзажи.
«Солнце заходило в светло-сером октябрьском небе, прочерченном на горизонте узкими облаками. Последний луч пробрался сквозь чащу вдали у каскада и скользил по мостовой, обливая красноватым светом длинную вереницу остановившихся экипажей. Золотые молнии сверкали на спицах колес, горели на желтой кайме коляски, а в темно-синей лакированной обшивке отражались клочки пейзажа. <…> Передние экипажи двинулись, за ними медленно тронулись остальные, словно их разбудили ото сна. Заплясали тысячи огней (mille clartés dansantes s’allumèrent), быстрые молнии скрещивались в колесах; заискрилась встряхнувшаяся сбруя; по земле побежали отражения стекол. Сверкание сбруи и колес, лакированной обшивки карет, отражавшей зарево заката, яркие тона ливрей на лакеях, чьи фигуры вырисовывались на фоне неба, богатые туалеты, в изобилии наполнявшие экипажи, — все это уносилось в мерном движении…» (Эмиль Золя. «Добыча» [12], I).
Речь вовсе не о том, что видение Золя близко искусству импрессионизма (о мнимости понятия «литературный импрессионизм» говорилось выше), но о самом Париже шестидесятых годов (действие романа происходит в октябре 1861-го), будто таившем в своем подвижном облике рождающиеся коды импрессионистического видения [13]. О Париже, опошленном знаменитым призывом Гизо «Обогащайтесь!», Париже нуворишей, Париже, переделываемом вместе отважно и варварски, но, скажем об этом еще раз, о Париже новом, ином, которого не было прежде.
Париж не просто менялся, он превращался в решительно другой город, живущий в небывалом ритме, поражающий новыми пространственными эффектами, стремительностью движения; он уже почти ничем не напоминал столицу, описанную Луи Себастьяном Мерсье в его знаменитой книге «Картины Парижа» (1781–1788), и даже романтический город «Отверженных» Гюго.
Девятнадцатый век был для цивилизованного человечества столетием никак не меньших перемен и потрясений, чем следующий — двадцатый.