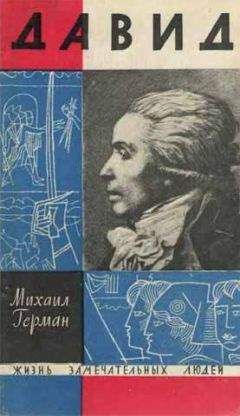стороны старого Лувра» (Оноре де Бальзак. «Кузина Бетта», 1846). «…Мои первые детские впечатления всплывают в памяти в том же окружении (décor), в котором Бальзак изобразил любовь барона Юло и госпожи Марнеф»
[16], — вспоминал Ренуар, имея в виду персонажей этой повести.
В самом центре — еще мрачнее. «Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное или, скорее, фатальное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит» (Эжен Сю. «Парижские тайны», 1842). А равнина Монсо, где ныне красивейший парк, в официальном донесении полиции называлась «самым темным местом парижских предместий».
Улица Ренн, от Монпарнаса к набережной Сены, бульвары Осман, Сен-Жермен, Распай, нынешний Сен-Мишель с открытой на набережную площадью, украшенной помпезным, раскритикованным современниками, но великолепным фонтаном; и прямой путь через него, через бульвар дю Пале на острове Сите и бульвар Севастополь с юга на север — от Пор-Руаяля до нынешнего Восточного вокзала, — все возникало лишь в «османовском» Париже, как и улица 4 Сентября, бульвар Мажента, парки Монсури, Бют-Шомон. Это время строящихся вокзалов, которые скоро начнут писать и Мане, и Кайботт, и Клод Моне. Едва оформленные дебаркадеры открывались прямо в город. И хотя не было не только нынешних вокзалов, но даже их названий, гудки паровозов, лязг буферов, запах дыма становились обыденностью Парижа, вокзалы превращались в новые центры городского оживленного напряжения, коммерческой деятельности [17]. Все это и создавало плазму, «вещество» нового Парижа, Парижа импрессионистов.
Блестяще выписанный монолог Аристида Саккара, одного из самых «инфернальных» и вместе с тем поразительно жизненных персонажей Золя, Саккара, смотрящего с вершины Монмартра на Париж, — своего рода эпиграф к наступающему времени: «Ах, посмотри, — проговорил Саккар, смеясь, как ребенок, — в Париже золотой дождь, с неба падают двадцатифранковики. <…> Не один квартал расплавится, и золото пристанет к пальцам тех, кто будет греть и размешивать его в чане. Ну и простофиля же этот Париж (grand innocent de Paris)! Смотри, какой он огромный и как тихо засыпает! Нет ничего глупее этих больших городов! Он и не подозревает, какая армия заступов примется за него в одно прекрасное утро. <…> Как только проведут первую сеть улиц, тут-то и начнется. Вторая сеть прорежет город по всем направлениям, соединит с первой предместья; все, что останется от старого, умрет, задохнется в пыли известки. <…> От бульвара Тампль до Тронной заставы [18] будет первый прорез (entaille); другой будет с этой стороны, от церкви Мадлен до равнины Монсо; третий — в этом направлении, четвертый — в том. Тут прорез, там прорез, всюду прорезы. Весь Париж искромсают сабельными ударами, вены его вскроют, он накормит сто тысяч землекопов и каменщиков, его пересекут великолепные стратегические пути с укреплениями в самом сердце старых кварталов» (Эмиль Золя. «Добыча», II) [19].
Из поэтического города дворцов, соборов и средневековых улиц Париж стал — во всяком случае, в центральных своих районах — городом респектабельным, приобрел облик, определяющий и сегодняшнее от него впечатление. Новую застройку площади Звезды и бульваров, которые, говоря словами Саккара, «искромсали» старый город, сформировали многоэтажные дома («вода и газ во всех этажах» [20] — формула нового комфорта родилась именно тогда) с большими, до полу, «французскими» окнами, с непременными решетками крошечных балконов, с высокими скругленными «лобастыми» крышами, мансардами, с лесом труб — о них с нежностью, как о примете уходящего века, писал Аполлинер (пунктуация авторская): «О старина XIX век мир полный высоких каминных труб столь прекрасных и столь безупречных (si belles et si pures)». Но в Париже — особенно в центре — стало легче двигаться, ездить, дышать, он стал истинно столичным, фешенебельным городом, понеся неизбежные потери в своей легендарной поэтичности и постепенно обретая новый урбанистический комфорт. При этом архитектура домов, рисунок их фасадов, несомненно, являют собой примеры если и не безупречного вкуса, то хорошего чувства стиля, настоящего парижского «шика» и отточенного профессионализма. К тому же дома стали снабжать сносной системой водопроводов и сточных труб, появились ванные и вполне современные гигиенические устройства. А парижская канализация стала настолько совершенной для своего времени, что между площадями Шатле и Мадлен по новым просторным подземным коллекторам — на специальных плотах — совершали экскурсии даже светские дамы!
То, что не смог оценить блестящий, хотя и педантичный стилист Виолле-ле-Дюк, осуждавший перестройку Парижа, почувствовал обладавший своеобразным профетическим даром Теофиль Готье: «Современный Париж был бы невозможен в Париже прошлого. Цивилизация, которой нужны воздух, солнце, простор для ее безостановочной деятельности и постоянного движения, прорубает широкие авеню в черном лабиринте улочек, перекрестков и тупиков старого города; она срубает дома, как американские пионеры срубают деревья» [21].
«Все движется, все вырастает, все увеличивается вокруг нас. <…> Наука творит волшебство, промышленность совершает чудеса, а мы остаемся бесчувственными и теребим расстроенные струны наших лир, закрывая глаза, чтобы не видеть, или упрямо смотрим в прошлое, где нет ничего, о чем следовало бы жалеть. Открывают пар, а мы воспеваем Венеру, дочь соленой волны; открывают электричество, а мы воспеваем Вакха, друга румяного винограда. Это абсурд» [22]. «Париж — город именно XIX века. Если города действительно представляют собой последовательные наслоения, то основным периодом создания архитектурного облика Парижа следует считать вторую половину XIX века, прошедшую под покровительством Османа. Отныне Париж неделимый город: он был, плохо это или хорошо, „османизирован“» [23].
Поздно размышлять, стал ли Париж красивее или уродливее, важно иное — он стал другим. И это другое, равно как и процесс метаморфозы города, важно для понимания становления импрессионизма.
Импрессионистов едва ли зачаровывала поэзия прежнего города, легенды средневековых улиц, готические фасады, башенки, почерневшие от времени и пыли статуи. Судьба наделила их особой отвагой видения, жадностью к новому, умением чувствовать эстетику меняющегося мира. Они приняли и полюбили другой, новый город, его изменившиеся ритмы, просторы непривычно широких улиц, очарование толпы, суетной, элегантной, мерцающей нарядами, жестами, самóй особой столичной торопливостью, они видели весь невероятно изменившийся Париж, прельстительный и роскошью, и печалью, наполненный, в прямом смысле слова, «блеском и нищетой». В городе, где вовсе не существовало стилистического единства зданий и сюжетов, художникам удавалось различить и реализовать на холстах единство живописного впечатления. Чистота стиля возникала только на картинах, ибо не архитектурой одной прекрасен город, но жизнью и трепетом