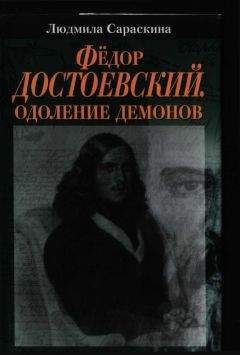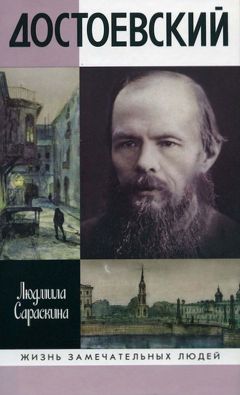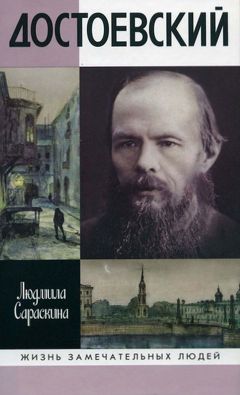Близкие знакомые запомнили его болезненным, раздражительным, нервным и крайне обидчивым. Принимая посетителя, он мог молча и мрачно протянуть ему руку и тотчас же сделать вид, будто совсем не замечает его присутствия. Его потрясенные нервы, его странности были притчей во языцех. «Придет он, бывало, ко мне, — вспоминал Вс. С. Соловьев, — войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его»[169].
«Он не вполне знал себе цену, — писала его старинная приятельница Е. А. Штакеншнейдер, — ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно. Он не вполне сознавал свою духовную силу… иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия… Меня всегда… поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое‑то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а… минутами точно желчный шарик какой‑то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда…»[170]
Он, по словам своих литературных и светских знакомцев, не был создан для общества, для гостиной. Он не знал тонкостей светского обращения — этой холодной вежливости и любезной привычки смотреть через плечо, — которые неподготовленного новичка могли довести до обморока. Он не знал и того, что зовется (или тогда называлось) «светом», его правил и предпочтений, его меняющейся моды и иерархии. Пустой, формальный вопрос о здоровье, заданный Достоевскому в «свете», мог так оскорбить его, что он замыкался в глухом молчании на весь вечер.
Но с каким любовным тщанием, с каким молодым вдохновением придумывал он светский почерк для Ставрогина, когда тот играл роль comme il faut и завсегдатая гостиных[171].
«Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый». Появляясь в «свете», даже если это была гостиная его матери, он казался веселым и спокойным, довольным и добродушным, бегло осматривался, неспешно обходил всех присутствующих и с каждым здоровался, выслушивая собеседника лениво и рассеянно, «с своей официальной усмешкой».
Достоевский сочинял легкие как дым диалоги в «светском» ключе — в них его Nicolas был верхом совершенства.
«Я думал еще повеселить вас Лембками, — весело вскричал он (Петр Верховенский. — Л. С.).
— Нет уж, после бы. Как, однако, здоровье Юлии Михайловны?
— Какой это у вас у всех, однако, светский прием: вам до ее здоровья всё равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает… Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще, чем когда‑нибудь, — чрезвычайно выгодное положение».
Достоевский точно знал, как нужно повернуть мнение света в пользу героя, когда у того случались скандальные неприятности. Отворяя дверь общественному нетерпению, жаждавшему поскорее понять суть происходящего, какой‑нибудь осанистый генерал с бесподобным образом мыслей где‑нибудь на приеме, собиравшем «весь город», замечал: «Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой‑то студент, в присутствии кузин, и он полез от него под стол; а вчера слышу… что Ставрогин дрался с этим…. Гагановым. И единственно с галантною целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться… Это в нравах гвардии двадцатых годов». Тут же включалась и Губернаторша (в романе она уже не «бросала все», чтобы уехать со Ставрогиным): «Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту! Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!»
Приговор света был знаменателен: объявлялось лицо новое, с почти идеальной строгостью понятий, и, «когда наконец появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах, на него устремленных, читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил с три короба. Одним словом, всё ему удавалось, он был в моде».
Как выразился о нем один из клубных старичков, — «тут не о молодежи вопрос; тут звезда — с».
IV
Казалось: путь звезды, триумфально блистающей в свете, Достоевский готов был расчислить, даже невзирая на свой личный отрицательный опыт. Автор, обычно столь далекий от бытового любопытства, для звездного героя подбирал гардероб и обставлял кабинет, каких никогда не имел сам.
«Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете, — вспоминал Вс. С. Соловьев свое первое посещение Достоевского в 1873 году. — Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в котором жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг… старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим, репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде… Затем несколько жестких стульев, еще стол — и больше ничего»[172].
«Обстановка всех комнат была очень скромная, — сообщал другой воспоминатель, бывший типографский служащий, М. А. Александров, — мебель в залегостиной была относительно новая, но так называемая рыночная; в остальных комнатах она была еще проще и притом старее»[173].
Мемуаристы вспоминали простые письменные столы, какие обычно стояли в казенных присутственных местах, старые кресла без мягких сидений, потертое пальто (просторный длинный пиджак из черного сукна), служившее писателю домашней одеждой много лет подряд, его грубоватое, некрасивое и на первый взгляд простое лицо. Их поражала чисто народная русская типичность его наружности, его руки с уродливыми ногтями на пальцах, носивших следы грубого, тяжелого труда, его изнуренный, мрачный вид, напоминавший тюрьму, больницу и солдат из разжалованных[174].
Достоевский и сам страдал от дерзкого предубеждения к нему новых или малоизвестных лиц и не мог забыть, например, оскорбления, полученного им от «подлой гадины m‑me Дюбюк», приемщицы закладов в Саксон ле Бэн. «Я снес кольцо; она кольцо взяла, но с большим отвращением, и денег мне не дала, потому что, говорит, нет…»
…Но звезде, аристократу и красавцу Ставрогину были предназначены иные впечатления, иные переживания, иное ощущение жизни. Николай Всеволодович являлся читателю в излюбленной своей комнате, «высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью». Упоминался прибывший из Петербурга (от модного портного Шармера) ящик с фраками, панталонами и бельем — впрочем, мало его интересовавший. Выходя из дому, он менял легкий бархатный пиджак на суконный сюртук, употреблявшийся для церемонных вечерних визитов. Степенный старик камердинер подавал ему незапечатанные записки карандашом на серебряной тарелочке; Николай Всеволодович таким же образом, через камердинера и на тарелочке, отсылал ответы: они предназначались Даше, жившей в этом же доме, в своих комнатах, и посещавшей его по ночам. На столе под абажуром лежало роскошное издание с картинками — кипсек «Женщины Бальзака». Для дуэлей у Николая Всеволодовича имелось легкое пальто и белая пуховая шляпа. «Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались».
«Безмерная высота», на которую Достоевский поднимал героя — звезду, была оборудована, кажется, на пределе авторского представления об аристократической роскоши, комфорте, утонченном вкусе. Повальное преклонение перед изысканной красотой и гордой силой Ставрогина явилось для населения «Бесов» гибельным соблазном.
Самое главное, однако, что искусно возведенная звездная высота, на которую вместе со всеми «маленькими» персонажами «Бесов» взирал снизу и «маленький» автор, вводила в соблазн прежде всего именно его. Одна из проницательнейших мемуаристок, Е. А. Штакеншнейдер, в своих воспоминаниях о Достоевском оставила замечание, относящееся к 1880 году и представляющее для нас особый интерес. «…Он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель. Теперь он часто бывает в аристократических домах, и даже в великокняжеских, и, конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его произведениях. И знакомство с большим светом все‑таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в «Бесах» он, верно, в этом отношении не пойдет, равно как для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей»[175].