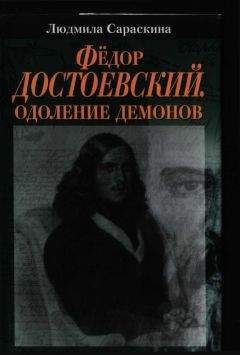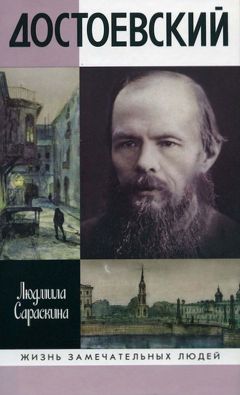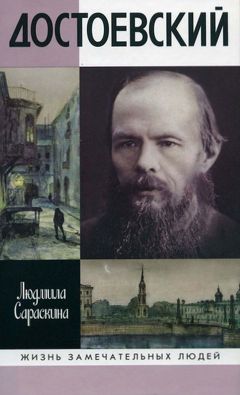Сойдясь со своим демоном в метафизическом пространстве, на границе романического вымысла и собственной жизни, Достоевский будто бросал вызов: кто ты и кто я? Я — бедный, изнуренный работой, тщедушный, некрасивый «мещанишко», с грубым и простым лицом, измученный нездоровьем и дурным бытом. Ты? Тебя я вижу бесконечно сияющим, обольстительным красавцем; я придумал тебя, отдав все лучшее, достойное беспредельного восхищения. Сотворив тебя таким, я дал тебе шанс, какого никогда не было у меня. Что ты сделаешь с ним и с собой?
Приглашение к дуэли было тем более парадоксальным, что вызываемый к барьеру герой сам был мучим видениями и призраками.
Достоевский смотрел в зеркало сочиняемого романа и видел своего демона грозным светоносным красавцем. Грозный красавец Николай Всеволодович Ставрогин имел обыкновение устремлять неподвижный взор в одну точку в углу комода. Оттуда ему являлся его демон — «маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся». В великодушном порыве самозабвенный автор готов был зара — зить гаденького бесенка, привидевшегося герою, своими физическими недугами.
Предстояла фантастическая дуэль, в которой двое из трех участников оказывались фантомами, чистым вымыслом. Получившему огромную фору Ставрогину выпадало начинать первым.
Глава вторая. Свой Мефистофель
I
Когда О. Ф. Миллер первым из биографов Достоевского прочел записки, воспоминания и рассказы лиц, близко знавших писателя в ту или иную пору его жизни, он сделал для себя неожиданное открытие. Он увидел, что уже десять лет читаемый в России роман «Бесы», во — первых, странно не понят и, во — вторых, является сочинением автобиографическим «в психологическом смысле»[176].
Это означало, что искать точных аналогий с реальной жизнью Достоевского в романе бесполезно, но в нем с автобиографической определенностью присутствует история его духовных увлечений.
Ни один из воспоминателей и товарищей Достоевского, кто передал или продиктовал биографу свои воспоминания, — доктор Яновский, петрашевцы Кашкин, Момбелли, Пальм и др. — мысль Миллера никогда не опровергал. Имея в виду, что «Бесы» — это в значительной степени история революционной молодости Достоевского, а не только «почти исторический этюд» о нечаевских событиях 1869 года, интерпретаторы более позднего времени обнаружили в нем — наряду с хроникой былого и политической злобой дня — даже личные мемуары[177].
Однако оттого что автор последовательно и преднамеренно (как это видно по черновым заготовкам) вводил в антинигилистический памфлет «петрашевские» краски, роман еще не становился автобиографическим — тем более в психологическом смысле.
Пронзительно личные, обжигающе интимные интонации замысел начал обретать тогда, когда его герой, пройдя через невероятную череду превращений, приблизился наконец к той черте, за которой взрывался памфлет и вырастала трагическая мистерия.
23 июня 1870 года, заполняя «фантастическую страницу» в черновой тетради и пробуя то один, то другой сценарий для Князя, Достоевский вдруг (наверное, это действительно случилось внезапно) набросал несколько строк, которые высветили героя с весьма неожиданной стороны. Прежде скучающий, но чрезвычайно словоохотливый, Князь вдруг сделался странно молчаливым.
«Князь слушает жадно, но молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора. Он прислушивается и приглядывается. Угрюм и важен… Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий».
Эта заметка появилась, скорее всего, «под пером»: повинуясь какому‑то импульсу, какому‑то неясному намеку, Достоевский заставил еще достаточно аморфного Князя встретить страстные речи Шатова «о России, об антихристе и подвиге» многозначительным мефистофельским молчанием.
Ни в тот, ни в последующие дни лета 1870 года, когда работа над Князем покатилась наконец к финальному решению, в тетрадях Достоевского так и не появилось имя, которое — будь оно там — с непреложностью доказало бы точный источник мефистофельских ассоциаций. Однако в том, что Князь, внезапно напомнивший Достоевскому о Мефистофеле, а затем за полтора летних месяца доведенный до полной демонической кондиции, так и не получил в черновиках (по примеру других персонажей) имя возможного прототипа, заключался особый смысл.
Странно было бы признаваться в записной тетради, что маска Мефистофеля, мелькнувшая вдруг в облике Князя, магически воскресила память. Нечто глубоко в ней спрятанное вспыхнуло и загорелось — и этот огонь придал мучительным и до того бесплодным поискам чудодейственную энергию и целеустремленность.
Явленная автору цель санкционировала право на молчание — тем более что имелись на это причины и сугубо личного свойства.
IIДостоевский — и тогда, когда молодым попал в кружок Петрашевского, и когда после каторги вышел сумрачным и нервным нелюдимом — не был человеком открытым; товарищи его юности замечали в нем истый тип заговорщика: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. За двадцать семь лет, протекших после каторги до кончины, он никогда публично или печатно не приводил имен и фактов, связанных с давно прошедшей историей. А главное — он не оставил никаких автобиографических свидетельств о душевных переживаниях своей мятежной молодости.
Когда же увидели свет (1885) воспоминания доктора Яновского с сенсационными подробностями на эту тему, прокомментировать их было некому: двух главных героев, о которых повествовал Яновский, уже не было в живых.
Рассказ Яновского, реконструированный в хронологической последовательности, складывался в фантастический сюжет.
Осенью 1848 года Достоевский посещал кружок Петрашевского, о чем рассказывал доктору Яновскому, сочувственно отзываясь о Дурове, Пальме, Момбелли и др. И только об одном из участников кружка — Спешневе — Достоевский «или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: «„Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому”»[178]. Непонятное нерасположение Достоевскому к Спешневу Яновский объяснял самолюбием приятеля: знать, нашла коса на камень.
В конце года Достоевский сблизился со Спешневым, взяв у него в долг 500 рублей серебром на покрытие самых необходимых расходов. «Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около двенадцати часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать».
Спустя две — три недели Яновский стал замечать странные перемены во внешности и в поведении своего пациента и друга. «Федор Михайлович… сделался каким‑то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как‑то особенно часто жалующимся на дурноты». Как врач Яновский, видя у Достоевского «скучное расположение духа», искал органические расстройства, но, не находя их, уверял друга, что дурнота, не имея медицинских причин, пройдет бесследно.
Но однажды, в ответ на эти успокоения, Достоевский сказал: «Нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму около пятисот рублей серебром) и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек».
«Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь», — писал Яновский. Он запомнил, что в течение их беседы Достоевский несколько раз повторил: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель».
И тогда, в 1848 году, и тридцать пять лет спустя Яновский «инстинктивно верил, что с Федором Михайловичем совершилось что‑то особенное», и придавал признанию о Мефистофеле «фатальное значение».
«Я знаю, — продолжал Яновский, — что Федор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету… После же займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист».
Увидев, как именно подчинился Достоевский своему Мефистофелю, Яновский почуял опасность. «…Я заметил только одно новое для меня явление: прежде, когда, бывало, Федор Михайлович разговаривает со своим братом Михаилом Михайловичем, то они бывали постоянно согласны в своих положениях и выводах, но после визита Федора Михайловича к Спешневу Федор Михайлович часто говорил брату: „Это не так: почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес (это было какое‑то сочинение Луи Блана), заговорил бы другое”».