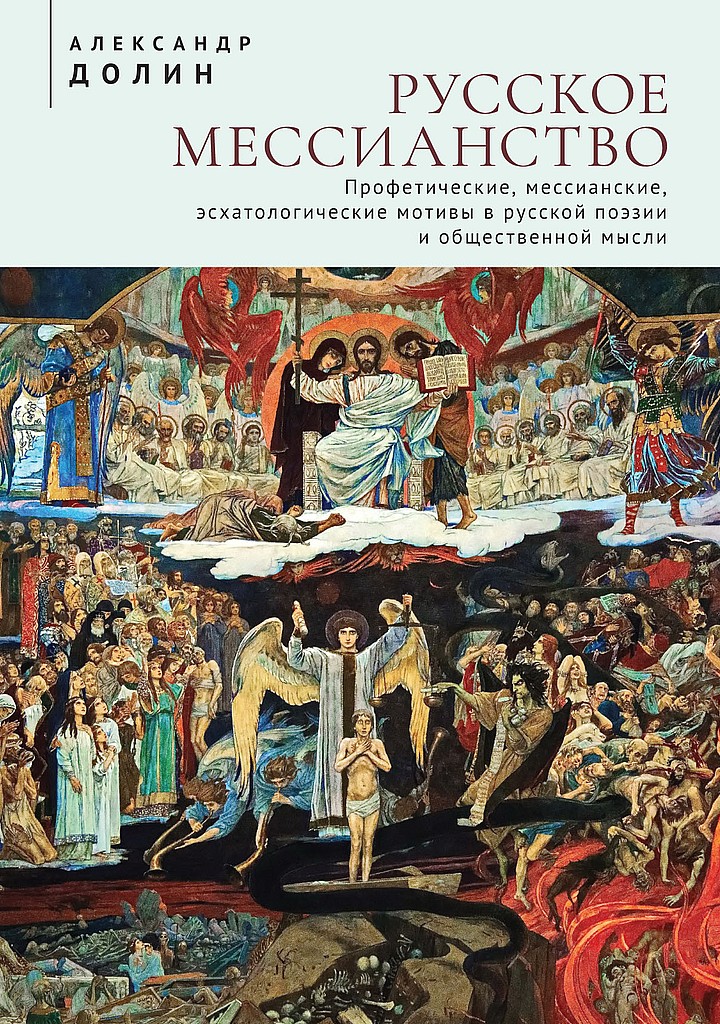«большеветь» таким способом, пойдя по пути открытого конформизма.
Даже путешествие на Урал, предпринятое в 1932 г. и открывшее перед поэтом ужасающее положение простого народа, бедствие, которое «не укладывалось в границы сознания», не заставило его принципиально изменить свои взгляды и уж во всяком случае не отвратило от сотрудничества с теми, кто был истинным виновником всех народных бедствий.
* * *
На рубеже тридцатых годов Сталин лично подсказал верноподданной интеллигенции тему воспевания державности и русско-советской государственности. Легион присяжных песнопевцев откликнулись на это сочинениями типа «Широка страна моя родная…», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля» и бесчисленными кантатами, восславляющими «отца народов». Алексей Толстой откликнулся «Петром Первым», Эйзенштейн — «Иваном Грозным», а Горький — обещанием написать биографию самого Вождя, которая — к чести великого писателя — так и не была написана. Впрочем, каждый деятель официальной культуры откликнулся как мог, внося свой посильный вклад в создание мифа.
Отношения Пастернака со Сталиным служат прекрасной иллюстрацией всех комплексов старой российской интеллигенции, ступившей на путь сотрудничества с кровавым тоталитарным режимом, в лоне которого вызрел беспрецедентный по масштабам культ личности. В работах последнего десятилетия, посвященных творчеству Пастернака, эта щекотливая тема трактуется обычно в плане отношений «поэта и царя», причем у всех исследователей и биографов, начиная с О. Ивинской и Е. Пастернака, прослеживается понятное желание представить поэта как расвноправного собеседника, ведущего на равных диалог с тираном. В действительности же такой диалог со Сталиным был априори исключен, и любая попытка вступить в открытый диалог с вождем означала акт гражданского и физического самоубийства. В принципе, конечно, такой акт был возможен, но никто из деятелей культуры сталинской поры воспользоваться этой возможностью не решился. Не пытался вести полемику со Сталиным и Пастернак — он просто хотел быть услышанным и одобренным в своем рвении. Как он относился к Сталину? Видимо, по-разному. Шнейберг и Кондаков полагают, что «Пастернак и любил его, и боялся, и восхищался, и ненавидел, и недоумевал…» ( ‹224>, с. 203). Вполне вероятно, что в глубине души так же относились к вождю и самые верные его сподвижники. Однако истинным мерилом отношения к политическому режиму и его руководству служат не слова, а действия, конкретные поступки и произведения искусства. Действия же Пастернака, по крайней мере до середины сороковых годов, были направлены на возвеличивание Сталина и его свершений.
По словам О. Ивинской, Пастернак искренно осуждал сервилизм сталинской интеллигенции, нелестно отзываясь об А. Толстом, Эйзенштейне, Шостаковиче за их работы по «социальному заказу». Очевидно, и они могли бы в свою очередь предъявить не меньший счет оппоненту, который уже в 1936 г. «от души» воспевал вождя народов, своего кумира:
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
Как заметил В. Баевский, «Пастернак четко указывает, что в его двухголосной фуге Сталин — это первый голос, пропоста, вождь, а поэт — рипоста, ответ. Но контрапункт существует: „Он верит в знанье друг о друге…“» ( ‹15>, с. 218).
Виртуальный (почти полностью) и туманный диалог со Сталиным, который односторонне вел Пастернак на протяжении многих лет, видимо, заслуживает специального исследования, но смысл его очевиден: поэт хотел быть услышанным, понятым, признанным и оцененным самим диктатором. Только Сталина он считал полномочным и компетентным судией собственного творчества (разумеется, в его общественной и провиденциальной ипостаси), достойным высшим собеседником.
Из работ последних лет мы знаем о том, как относился к Пастернаку Сталин, знаем детали знаменитого телефонного разговора после ареста Мандельштама, закончившегося фразой: «Вот ты и не сумел защитить товарища». Знаем мы и о несбывшейся мечте поэта встретиться с вождем, чтобы «поговорить о жизни и смерти». Поэту мнилось, что он может говорить как равный с этим «гением дохристианской эпохи», который обращается к нему на «ты». Но Сталину не о чем было разговаривать со своим поэтом, и он не снизошел до разговора. Для него Пастернак был всего лишь деталью в механизме государственной машины — винтиком, который, как и прочие, ему подобные, хорош до тех пор, пока исправно выполняет свою идеологическую функцию, но подлежит замене при малейшем сбое, а может быть, и просто для профилактики. От Пастернака Сталин ожидал панегириков эпохального значения в духе Маяковского — и время от времени получал их, хотя и не столь регулярно. Один лишь пастернаковский перевод на русский язык сочинений грузинских поэтов, включавших виртуозные панегирики великому соотечественнику, просто заранее был запрограммирован на высочайшее одобрение.
С другой стороны, Сталин, как и все его окружение, будучи представителем маргинальной, разночинской, отнюдь не элитарной культуры, вероятно, чувствовал себя некомфортно в обществе мастеров подлинного, боговдохновенного искусства и потому тесного общения с такими личностями, как Пастернак, по возможности избегал. Мандельштам однажды заметил, что власти предержащие, видимо, просто опасаются подобных очных ставок, чувствуя присутствие иной силы, исходящей от Мастера. Правда, и сами мастера вряд ли чувствовали себя хорошо под бдительным оком Вождя и Учителя. По сути дела Сталин устанавливал с деятелями искусства и литературы деловые коммерческие отношения, в которых платой за лояльность и качественную продукцию были и гарантия личной безопасности (пусть условная и не слишком постоянная), и возможность печататься, и ряд серьезных социальных привилегий в соответствии с неписаной табелью о рангах.
Так, в начале 30-х гг. Пастернак делает реверансы Сталину в стихах и письмах, причем дает Сталину основания рассчитывать на более значимое сотрудничество, обещая стать новым «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи». Платой становится избрание в секретариат Союза советских писателей, выпуск книг, поездка на антифашистский конгресс в Париж, квартира и дача. Славословия продолжаются — и Сталин удовлетворяет ходатайство поэта об освобождении (как оказалось, временном) мужа и сына Ахматовой. В дальнейшем, в период Большого террора, стихают славословия со стороны Пастернака — и поток сталинских благодеяний иссякает, доступ к читателю затрудняется. Тем не менее сделанного оказалось достаточно, чтобы обеспечить поэту личную неприкосновенность в годы массовых репрессий и «гражданские права» в советской литературе.
Пастернак жил иллюзией собственной значимости в советском обществе — значимости отнюдь не чисто литературной, но провиденциальной, профетической. Признавая в Сталине мессию, явленного в ходе Апокалипсиса, он тщился считать себя вестником этой беспощадной, но якобы благотворной силы. Очевидно, теми же соображениями руководствовались Станиславский и Мейерхольд, Эйзенштейн и Пудовкин, Алексей Толстой и Горький, а