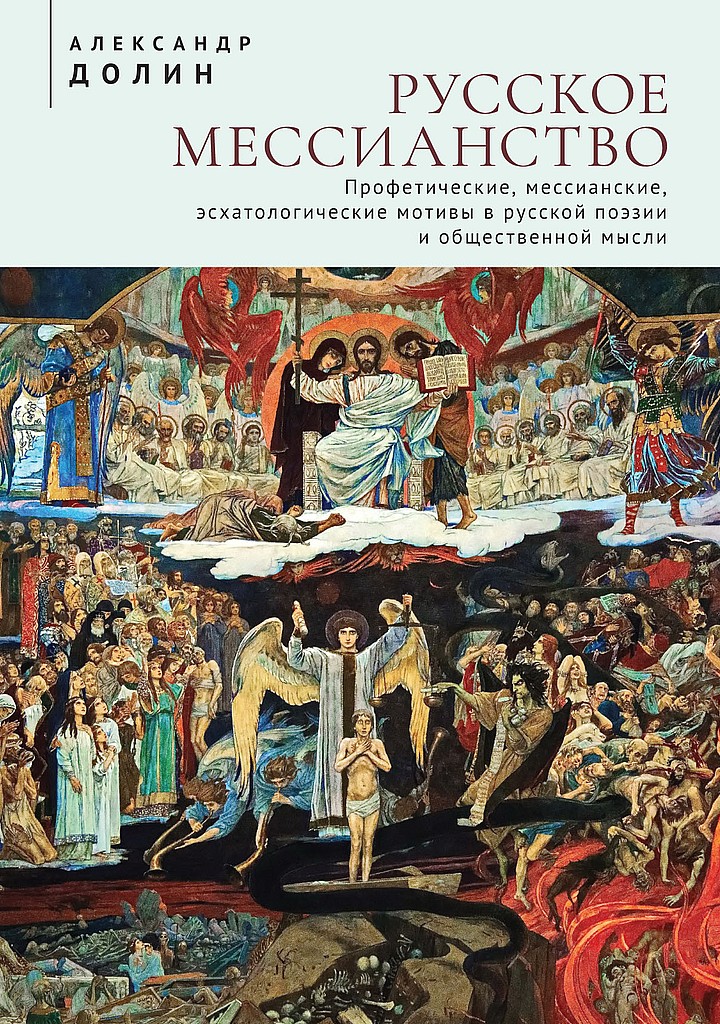с ними все прочие деятели сталинской старой и новой интеллигенции, имя которым легион. Истинные таланты, поставленные в весьма специфические условия, они согласились принять предложенные режимом правила игры в обмен на обещанную жизнь и возможность какого бы то ни было творчества. Вероятно, многие из них не считали, что служат режиму, полагая, что любые режимы бренны, а искусство вечно. Это было, конечно, самообманом во спасение. В действительности они-то и укрепляли людоедский режим своими творениями, придавая ему «человеческое» обличье.
* * *
Тоска по «государственности», воспринятой через призму кенотической идеи, мечта приобщиться к массам, следуя своим «путем зерна», не покидала Пастернака ни в тридцатые, ни в сороковые, ни в пятидесятые годы. В декабре 1934 г., после убийства Кирова и начала террора, он писал отцу, живущему в эмиграции, как хотел бы «стать частицей своего времени и государства». Эта страсть порой выливалась у поэта в весьма причудливые формы, что особенно наглядно вырисовывается во «Втором рождении», в стихах о Кавказе:
И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!
О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!
Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.
(«Волны», 1931)
Трудно придумать более гротескный «советский» образ, который, исходя от Пастернака, приобретает какой-то жутковатый мазохистский оттенок. Всего девять лет назад тот же автор торжественно провозглашал: «Поэзия, я буду клясться // Тобой, и кончу, прохрипев,// Ты не осанна сладкогласца…» И вот теперь он хочет, жаждет, чтобы железная пята генерального плана сталинской пятилетки «мяла дождь его пророчеств»!
Обратим внимание на промелькнувшее в стихотворении слово «зависть». Оно, пожалуй, является ключевым и далеко не случайным для понимания умонастроений Пастернака, Мандельштама, Андрея Белого и многих других блестящих деятелей культуры Серебряного века, оказавшихся в зазеркалье сталинского социализма. Это та самая «зависть» и ревность, которую воспел в одноименном романе Юрий Олеша, — зависть к тем, кто, подобно директору треста пищевой промышленности Андрею Петровичу Бабичеву, «поет по утрам в клозете», занимается физкультурой, много и вкусно ест, — словом, делает свою полезную работу и умеет наслаждаться простыми радостями жизни. А интеллигент-рассказчик Кавалеров «при нем шут», и никакого иного статуса ему не положено. Это зависть к людям иного сорта, людям конкретного действия и конкретной (марксистской), а не абстрактной идеи, волею обстоятельств поставленным в центр событий. В самом общем плане это зависть к якобы реальной якобы новой якобы жизни, которая творится новыми, не обремененными сомнением и рефлексией, людьми, — творится из бетона и стали под лозунгами пятилеток.
Сотворенный той же творческой интеллигенцией миф о «великом походе», о «первой в мире Стране Советов», о «сталинских пятилетках» и «сталинской коллективизации» в конечном счете порабощал своих создателей, заставляя даже самых боговдохновенных из них поклоняться ложным кумирам вопреки всякой логике, здравому смыслу и принципам гуманизма. В известном смысле они уподобились герою новеллы Кафки, который с чувством глубокого удовлетворения принимает участие в собственной казни, довольствуясь малым — возможностью лизать кашу во время экзекуции.
Поскольку героями нового мифа были провозглашены люди непосредственного действия и конкретного поступка — профессиональные революционеры, полярники, моряки, летчики, танкисты, ворошиловские стрелки, стахановцы и тимуровцы, — то сами мифотворцы были обречены на прозябание в тени чужой славы. Это должно было порождать зависть. Как ни парадоксально выглядит подобная зависть великих к малым сим, особенно к тупым, ограниченным и бесхитростным партийно-административным функционерам, ее можно понять. Не такую ли картину с небольшими корректировками мы снова наблюдаем сегодня — правда, в обратной проекции?
Пастернак, вызванный к Троцкому для беседы перед разрешенной ему поездкой в Германию летом 1922 г., долго доказывал кровавому гению революции, что его стихи, несмотря на дефицит социальной проблематики, тоже служат делу пролетариата, резюмировав свои впечатления о собеседнике в письме к Брюсову: «Вообще он меня очаровал и привел в восхищение» ( ‹147>, т. 5, с. 134). Что касается главной культовой фигуры сотворенного впоследствии мифа, то известно, сколь трепетным было отношение к ней масс, в том числе и масс интеллигенции, — что бы ни утверждали задним числом мемуаристы. Недаром миллионы плакали на улицах, узнав о смерти тирана. Литераторы, мастера пера, вербализовали миф в меру своих талантов, наделяя «отца народов» сверхъестественными добродетелями, и Пастернак не был исключением в искреннем желании обожествить загадочного монстра, а себя представить мистическим вестником его воли и разума:
А в те же дни на расстояньи,
За древней каменной стеной
Живет не человек — деянье:
Поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собраньи сказок и реликвий,
Кремлем плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
Итак, зависть, ревность поэта к «гению поступка». Конечно, говоря о Пастернаке, можно трактовать ту же «зависть» и в более широком, шекспировском смысле — том самом, что раскрывается в «Проблеме Гамлета» И. Анненского: «Завистлив Гамлет? Этот свободный ум, который даже слов призрака не может вспомнить, так как не от него зависит превратить их в импульс, единственный определитель его действий? Да и как же может завидовать он, столь не соизмеримый со всем, что не он?..
Видите ли, зависть художника не совсем та, что наша…
Для художника — это болезненное сознание своей ограниченности и желание делать творческую жизнь свою как можно полнее. Истинный художник и завистлив, и жаден <…>
Итак, Гамлет завистлив… Спросите лучше, кому он не завидует?
Туповатой уравновешенности Горацио, который не различает в принимаемой им судьбе ее даров от ее ударов. (Вспомним пастернаковское „но пораженья от победы // ты сам не должен отличать“. — А. Д.)
Слезам актера, когда актер говорит о Гекубе, его гонорару… его лаврам даже. Мечте Фортинбраса, Лаэрту-мстителю… <…> Юмору могильщика… корсажу Офелии и, наконец, софизмам, они придуманы не им, Гамлетом» ( ‹10>, с. 169).
Гамлет завидует