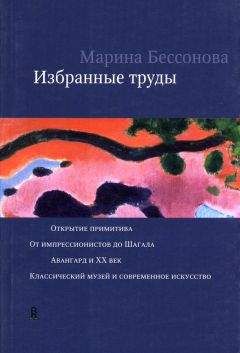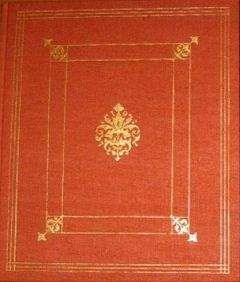Удивляться тому, что произведения русских нонконформистов не освоены и музейно «не внедрены» где-нибудь в Германии и Соединенных Штатах, не приходится. А вот то, что родина русского искусства в своих музейных коллекциях имеет не просто лакуны, а огромные дыры, которые сейчас заполнить, занимаясь закупками и собирательством, практически уже невозможно, является прискорбным фактом. Мы, музейщики, это понимаем. Мы знаем, что время ушло. Это крайне болезненная проблема наших отечественных музеев. Я не очень представляю, как сейчас, скажем, мои уважаемые коллеги из Третьяковки будут составлять разделы русского нонконформистского искусства в постоянной экспозиции. На основе каких материалов? Я даже не уверена, что отдел графики обладает достаточной полнотой и, самое главное, – качеством работ этих художников, чтобы их можно было полноценно и достойно представить в экспозиции. К тому же графика – материал, не экспонируемый постоянно. Так что эта проблема остается для русских музеев очень тягостной. Скажем, Русский музей в Санкт-Петербурге решает ее понемногу, с другого конца, пытаясь не совершать ошибок прежних тоталитарных лет и собирать хотя бы в наши дни произведения ведущих отечественных художников, чтобы выйти впоследствии на уровень национальных музеев современного искусства, каким, например, является Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке.
Но историческая часть собрания (хотя сами художники живы и находятся сегодня среди нас) отсутствует, а это значит, что русское искусство ХХ века и на сегодняшний день в наших замечательных музеях, с квалифицированными специалистами и современными профессиональными подходами к собирательству классического искусства представлено в искаженном виде. Проблема очень серьезная.
Так уж сложилось, что отечественное искусство второй половины ХХ века было спасено, сохранено и практически «музеефицировано» в частных коллекциях. Несмотря на все, что происходило с самими коллекционерами: их переезды из страны в страну, какие-то неизбежные потери, семейные разводы и прочие жизненные факторы, которые влияют на судьбу коллекции. Все-таки их ядра, основные звенья сохранены. Прочитывание коллекционером смысла произведений, которые он отобрал, хотел увезти из России, сохранить или спасти, очевидно на примере собрания Юрия Трайсмана. Что касается интеграции современного русского искусства как в международный художественный контекст, так и в отечественную историю культуры, – то это уже задача профессиональных теоретиков, историков и критиков на родине.
Фотонатюрморт и эстетика поставангарда
Жанр фотонатюрморта стал в восьмидесятые годы чуть ли не излюбленным среди ведущих и одаренных фотографов. Ему нередко отдают предпочтение перед портретом, репортерским или назидательным жанром, плакатной символикой и фотоштудиями обнаженной натуры, с которыми так ярко выступили фотохудожники и фотолюбители в предшествующее десятилетие.
На последних фотовыставках все настойчивее заявляют о себе укрупненные, выхваченные светом на темном фоне или, напротив, едва проступающие на сияющей белизной поверхности отдельные предметы. Эти одинокие объекты, подчас объединенные по воле автора в нарочитые групповые композиции, берут отныне на себя функции и своего рода психологических портретов, как на изображении «кокетливой» пишущей машинки с запутавшимися в ней растениями у А. Кулакова, и общественно-тематических жанров, как на имитирующем индустриальный пейзаж снимке А. Струмилы, запечатлевшем рулоны блестящей проволоки под открытым небом. Откровенно графический натюрморт Ю. Удумяэ с лентами, клетчатой салфеткой и стоящим на ней стаканом с водой и перышком по композиции и манере акцентировки знаков уподобляется плакату, а керамические вазочки А. Тенно в сочетании с хрупкими бутонами на ветке, пластика которых строится на игре оттенков белого, своей мягкой округлостью форм и световой невыявленностью апеллируют к фотографическим ню.
Такое скрещивание разных тем, жанров и авторских приемов в натюрморте свидетельствует об особой роли вещей, неодушевленных объектов в образной концепции изобразительного и фотографического искусства восьмидесятых годов.
Витаутас Бальчитис. Зонтик и электроплитка. 1981
В живописи эта самодовлеющая роль предметов, устрашающая значимость обычных будничных вещей проявилась значительно раньше, начиная с поп-артовских коллажей авангардистов-шестидесятников. Тридцать лет назад живопись пыталась освоить кажущуюся бесстрастной объективность фотографии, видя в ней, как и столетием ранее, лишь возможность механического воспроизведения натуры. Сходство с фотографией и включение ее имитаций в сборные структуры поп-артовских изображений носило принципиальный характер в рамках новой нетрадиционалистской эстетики. Имитация газетных и любительских фотографий, бессистемно рассыпанных по разным участкам картинной плоскости на ранних полотнах Р. Раушенберга, носила характер откровенной игры в документ, в попеременное перелистывание сегодняшних и старых газет и журналов, из которого складывается досуг деловых людей, бьющихся, как мухи, в тенетах современного технократического общества. Э. Уорхолл превратил эту игру с фотоснимками в произвольную механическую тусовку кадров, строя свои полотна по принципу бесконечного чередования одних и тех же снимков на цветной фотопленке. Путь имитации на поверхности холстов фотографий стал для него единственно возможным средством решения таких драматических сюжетов, как самоубийство женщины, выбросившейся из окна небоскреба, или автомобильная катастрофа на шоссе. Подражание фотографии понадобилось этому королю поп-арта для того, чтобы опредметить драматический сюжет, преподнести его как обычный газетный репортаж, акцентировать его внеположенную человеку сущность. Несколькими годами спустя художники-семидесятники во всех странах мира полностью отождествили предмет изображения с его возможной интерпретацией, воспользовавшись для этого также имитацией фотографических средств. Так появились картины, подражающие гигантским цветным слайдам, или гиперживописные фотопортреты на огромных «черно-белых» полотнах Ч. Клоуза. Характерно, что на картинах гиперреалистов пейзаж или город изображался, как правило, безлюдным, что тут же уподобляло его гигантским фотонатюрмортам. Сходным образом опредмечивались, становились бесстрастными объектами микрои макросъемки и человеческие лица. Овеществление мира, уподобление его странному, заколдованному, неподвижному царству, в котором если и присутствуют люди, то в состоянии полного бездействия, подобно своим двойникам на негативах, стало отныне общепринятым способом фиксации современной действительности, проникая даже в далекие от фотореализма живописные направления. На гребне этой волны тотального опредмечивания возник острый интерес к старой, доиндустриальной фотографии, сосредоточившей все внимание на единичном неподвижном объекте изображения, будь то предмет или человек, то есть к дагерротипу. На задний план невольно отступили все технические достижения современной моментальной фотосъемки, равно как и возможности работы с негативом, продемонстрированные разными мастерами, начиная с Робинсона и кончая Хартвигом. Стремление фотографии быть не хуже самой тонкой живописи было перечеркнуто открытием этой самой живописью в последние десятилетия особых выразительных и эстетических качеств наиболее простого и технически «правильного», стандартного фотоизображения.
А. Болдин. Натюрморт с афишей. 1977
Чтобы остаться на современном уровне и приблизиться к живописному авангарду, фотография должна забыть о как бы «импрессионистических» пейзажах, естественных жизненных ситуациях, снятых «скрытой» камерой, и даже о фрагментарных плакатных динамичных образах, несущих ярко выраженный публицистический заряд. Глубже и тоньше должны заговорить искони бывшие фотографическим объектом неподвижные вещи, подсказанные живописи фотографией, забытые ею на длительный период времени ради имитации специфических живописных приемов и вот теперь возвращающиеся к жизни в своем первозданном виде, как бы получив второе рождение.
Пристальное вглядывание в вещь-объект приводит к неожиданным, подчас ошеломляющим результатам, определяющим многообразие авторских решений внутри такого на первый взгляд стабильного жанра, как натюрморт. Для А. Слюсарева характерно стремление анимировать неодушевленные вещи, привести их в своего рода движение, наделить индивидуальностью, вызывающей конфликт в сопоставлении и встрече с другими вещами, то есть поступить вопреки заданному современной живописью стереотипу неподвижного, как бы загипнотизированного объекта. Перед нами обратный диалог фотографии с живописью, в котором авторская камера, исследуя в натюрморте вещь со своих позиций, приходит к кардинальному, иному, как бы нефотографическому решению. Правильнее сказать, что фотография стремится в натюрмортах Слюсарева разрушить навязанный ей современной живописью имидж бесстрастной гиперобъективности. Закручивающийся лист бумаги отталкивается от прислоненного к стене щита, ровная поверхность которого служит упругим предметным фоном для ее пружинистого движения-толчка. Острые листья комнатной агавы впиваются в складки запутавшейся в них прозрачной ткани оконной занавески; в игру этого столкновения включаются тени, отбрасываемые на эту ткань предметами, напоминающими стрелы.