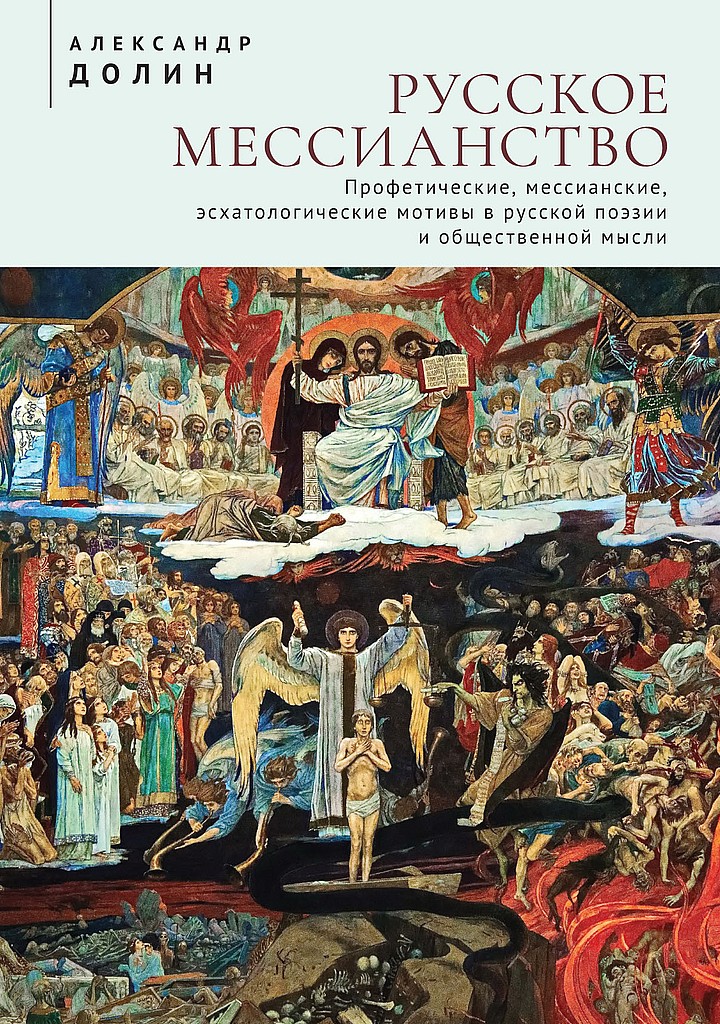горною волей и тем, что в горийском подвале
Вторая заря человечества нам занялась.
(Ок. 1935 г.)
Мифы рождаются под пером истинных бардов и лишь тиражируются эпигонами, обрастая новыми подробностями, книгами, памятниками. Сакрализация Сталина, отождествляемого со Страной, Народом, Светлым будущим и Всемирным счастьем, началась и продолжилась, в сущности, стараниями мастеров Серебряного века, одним из которых был и Бенедикт Лившиц. Кто сможет сегодня ответить наверняка, что заставило Лившица воспевать тирана в изысканных лирических стансах: только ли страх или то самое чувство трансцендентальной сопричастности, которое испытывает жертва к своему палачу? Может быть, дополняя уже сложившийся миф о вожде, он и сам уже был в плену советского архетипа — того самого, что заставлял недавних узников ГУЛАГа идти на смерть с именем Сталина на устах?
И, плененный небывалой целью,
Смуглый мальчик бросит свой вертеп.
Облака плывут над колыбелью
Новых человеческих судеб…
(1936)
Да, кровь от крови, плоть от плоти
Родной страны, он перерос
Вершины времени в полете
Своих неотроческих грез.
Мы перед будущим в ответе,
И будущее спросит с нас
За каждый прожитый на свете
При нем, в его эпоху час.
Как достояньем поколений,
Мы каждым знаком дорожим,
И все ж его могучий гений
Уже для нас непостижим.
(1937)
Стоит отметить, что если пресловутая «Ода» Мандельштама (январь 1937 г.) написана явно в гиперболическом ключе и каждый ее образ уже в силу этой гиперболичности содержит в себе пародийный подтекст, элементы гротеска, то тексты Лившица весьма серьезны и лишены всякого намека на пародийность.
Бенедикт Лившиц
То будущее, о котором тревожился Лившиц, для самого поэта так и не наступило. Славословия вождю не спасли его от карающего меча «вождя народов», и поэт был призван к ответу «за каждый прожитый на свете при нем, в его эпоху, час».
* * *
Мартиролог людей творческого труда, павших жертвами тоталитарного режима, вновь и вновь выявляет странную закономерность. Поэты великого таланта, пошедшие сознательно или бессознательно, поддавшись «обольщению», на прямое сотрудничество с кровавой властью, заплатили за это жизнью. Занявшие же позицию выжидательного конформизма, понесли кару в меру своего греха. Среди отвергнувших диктатуру и живших достаточно трудно вдали от родины, столь трагических судеб не было ни у кого, а поэтов меньшего масштаба, не отмеченных роком, мы в этой книге просто не рассматриваем.
Согласившись на сотрудничество с большевиками, поправшими свободу совести и отменившими свободу слова в России, «поэты-пророки» («витии» — как презрительно величает их в «Двенадцати» Блок) тем самым приговорили себя к лишению этой свободы. Никто из поэтов, бывших свидетелями или по крайней мере современниками кровавых злодеяний против собственного народа, граничащих с геноцидом, ни разу не посмел или не захотел возвысить голос протеста! Будь то красный террор 1918 г., массовые расстрелы в ЧК, удушение деревни, спровоцированный голод в Поволжье, преследование и высылка интеллигенции в 1922 г., расправа над инакомыслящими; будь то процессы «спецов», раскулачивание, насильственная коллективизация, массовые чистки середины тридцатых, сталинская культурная революция, показательные процессы вредителей всех мастей; будь то, наконец, людоедские вакханалии конца тридцатых и сороковых годов, прошедшие по стране опустошительным смерчем, — никто из тех поэтов, живших в России, кто некогда считал себя совестью нации, творцами Богочеловека, вестниками Мировой души и пророками великого Царства Духа, не решился воспротивиться торжествующему злу.
Ангажированность литераторов нередко сказывалась и в личных отношениях. Чтобы обеспечить себе относительную безопасность, почти все вынуждены были избегать «подозрительных» контактов и осуждать собратьев по перу на собраниях. Когда Мандельштам в 1929 г. изнемогал, затравленный бездарностями, Пастернак добродушно заметил в письме к Н. Тихонову: «В какую непоучительную, неудобоваримую, граммофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное, в руки валящееся испытанье, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого сознанья совершенных пустяков вроде „общественных протестов“, „травли писателей“ и т. д. и т. д.
Тут на днях собралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я, защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарищески, и тем же тоном напомнил, как трудно, временами, становится читать газеты (кампания по „разоблачению“ „бывших“ людей и пр. и пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать движущий толчок общественнической лавине…» ( ‹147>, т. 5, с. 277).
Всеми отверженная Цветаева, вернувшись из эмиграции в Россию, ожидала помощи от своего «духовного брата» Пастернака, с которым ее связывала многолетняя романтическая творческая дружба, почти любовь «по переписке». Поэт же, пребывавший в силе, хотя уже и не являвшийся фаворитом вождя, из соображений осторожности от действенной помощи и вообще от излишних контактов с неблагонадежной возвращен-кой воздержался, хотя на словах сочувствовал…
Мы знаем, что Пастернак и некоторые другие писатели порой отказывались подписывать коллективные письма с осуждением «врагов народа» и «чуждых элементов» (например, Ахматовой в период травли), исходившие от Союза писателей, однако плохо знаем о тех случаях, когда такие письма подписывались, — ведь их было настолько много, что не подписать ни одного, нарушая субординацию, видимо, означало подписать приговор себе. К тому же единичный и малозаметный в общей массе жест «ослушания» фактически ничего не способен был изменить — при соблюдении «единственно верной» генеральной линии.
* * *
Большинство гениев Серебряного века, что пережили свою эпоху и оказались — по своей ли воле или по прихоти судьбы — в сталинской республике Советов, остро чувствовали свою чужеродность, свое неизбывное «отщепенство». Это чувство неполноценности подкреплялось и с другой стороны — осуждением бывших поклонников, которые не могли примириться с конформистской позицией своих былых кумиров. Так, Андрей Белый, вернувшийся в 1923 г. в совдеповскую Россию из Берлина, где он провел несколько послереволюционных лет, фактически прешел на позиции активного коллаборационизма.
«В связи с получением визы ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать» — свидетельствует В. Ходасевич ( ‹212>, с. 69). Дальнейшее существование этого гениального писателя в условиях сталинского режима было сплошной цепью компромиссов с окружающей средой и собственной совестью, связанных с отказом от своего профетического призвания и профанацией священного дара витийства, о котором самим автором было столько сказано. Белый может считаться олицетворением и символом