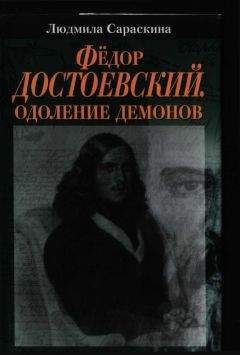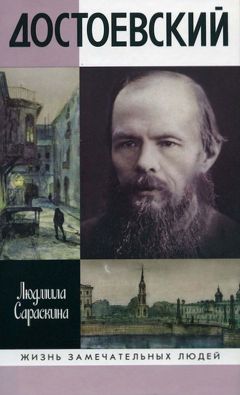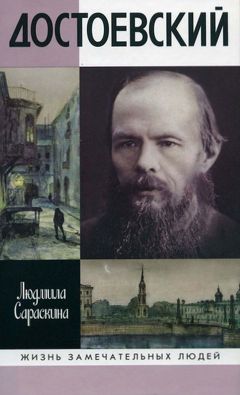Дамское сочувствие к романтическому страдальцу Спешневу, повернутое в сторону Ставрогина, удивительно ужесточалось: Достоевский, которому в пору писания «Бесов» были неизвестны ни мемуары Огаревой — Тучковой, ни письма Бакунина к Герцену и Огареву (так как в виде книг их тогда еще не существовало), будто пародировал и передразнивал воспоминателей, карикатуря прекрасное изображение. «Все наши дамы были без ума от нового гостя», — констатировал, как мы помним, Хроникер, перед тем как смешать с грязью и этих дам, и их гостя; «одних особенно прельщало, что на душе его есть, может быть, какая‑нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось, что он убийца». На романтическую тайну Спешнева, которой очаровывались в свое время и Семенов, и Огарева — Тучкова, и Бакунин, и — наверняка — Достоевский, была брошена тень опасной сомнительности; за героем и «новым гостем» тянулся длинный шлейф в багровых тонах.
Слухи вокруг Спешнева рисовали его возвышенным и одухотворенным паладином — слухи вокруг Ставрогина полнились темным безобразием. Там, в таинственном заграничном прошлом Спешнева, были изысканные салонные дамы и поляки — аристократы, здесь — петербургское отребье, безумные хромоножки и весноватые девчушки за ширмами. Обаяние тайны из разряда благородно — возвышенного опускалось до значений низких и постыдных; Ставрогину надлежало признаваться не только в зверином сладострастии, которым он «был одарен и которое всегда вызывал», но и в упоении позором и подлостью.
Лицо героя писалось как будто поверх другого изображения; не трогая рисунок, оставляя без изменения контуры и линии, неистовый художник «портил» живопись: перемешивал краски, менял оттенки, сгущал тени.
Огарева — Тучкова говорила о Спешневе: «Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно- русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какой‑то тихой грустью»[209]. О необыкновенно эффектной наружности Спешнева вспоминал и Бакунин: «Прибыл к нам Спешнев, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собой, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно — холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы… Женщины, молодые и старые, замужние и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство; а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной спокойной непроницаемости»[210].
Маленькое шарлатанство, завистливо заподозренное Бакуниным в поведении Спешнева, под пером Достоевского не просто выросло и окрепло, но и опасно усложнилось: за «самым изящным джентльменом», привыкшим «к самому утонченному благообразию», таился зверь; за «порядочно образованным», «с некоторыми познаниями» и «чрезвычайно рассудительным» человеком укрывался опасный безумец.
«H. A. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою, — писал человек беспристрастный, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов — Тян — Шанский. — С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя»[211]. И если только столь ответственное сравнение имело хождение в том кружке, к которому принадлежали и Семенов и Достоевский, последнему оно было особенно мучительно: человека с обликом Спасителя он считал и называл про себя своим Мефистофелем.
С каким‑то странным, суровым упрямством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева и поднятому на «безмерную высоту», где обитают небожители, вменялась демоническая двойственность, коварная и злокачественная двусмысленность: так за фигурой Спасителя тенью вставал Мефистофель, а перед глазами Ставрогина маячил маленький золотушный бесенок с насморком.
IV
22 Декабря 1849 года, только что пережив вместе со всеми осужденными обряд приготовления к казни, Достоевский писал брату из Петропавловской крепости: «Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется!.. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда!»
Когда спустя двадцать лет один из самых блистательных, волнующих образов, когда‑либо «выжитых» и пережитых сердцем автора, стал обретать плоть, художественный прогноз Достоевского полностью подтвердился: его память о Спешневе была отравлена, его потрясенная душа изъязвлена и изранена. «Отравой в крови» разлились воспоминания о роковом, загадочном барине, прекрасном, как Спаситель, и обворожительном, как Мефистофель. «…Я с ним и его», — сказал когда‑то Достоевский о своем демоне; теперь эту связь предстояло творчески обнаружить и разорвать: пришло время заплатить старинный долг.
Поразительнее всего, что к прототипу, реальному Спешневу, Достоевский вряд ли мог предъявить какие‑либо серьезные моральные претензии. Они оба были арестованы в одну ночь; по стечению обстоятельств вечер накануне ареста Спешнев провел в компании людей, которых Достоевский уже давно избегал.
Вспоминала Панаева: «В апреле месяце, не могу припомнить, какого числа, я была с Панаевым в гостях у одних приезжих знакомых; там между прочими лицами был Спешнев. Я его мало знала, но здесь долго разговаривала с ним. Из гостей мы втроем отправились домой, часу во втором ночи; мы шли пешком, весело разговаривая; ночь была светлая, и уже начинало всходить солнце. Спешнев был в очень веселом настроении духа и проводил нас до самого нашего дома; мы были уверены, что скоро увидимся, потому что он обещался прийти обедать к нам на неделе. Но на другой же день мы узнали, что Спешнев в эту самую ночь был арестован, следовательно, как только вернулся домой, проводив нас»[212].
Вряд ли Достоевский когда‑нибудь смог узнать об этом факте — после ареста он не видел Спешнева восемь месяцев: очных ставок между собой эти арестанты не имели, в тюремный дворик на положенные четверть часа их выводили поодиночке, на Семеновском плацу обоим было уже не до светских дам, даже таких прелестных, как Панаева, в которую один из них был когда‑то безнадежно влюблен.
Между тем романтический красавец, барин и богач Спешнев не откупился от следствия и суда, а разделил общую судьбу арестованных: так же как Достоевский, сидел в одиночной камере Петропавловской крепости, так же просил родных присылать книги (арабские, еврейские, китайские, санскритские и монгольские лексиконы и грамматики, сочинения римских и греческих историков), так же был лишен всех прав состояния и осужден на смертную казнь. Еще во время следствия Комиссия намеревалась «наложить на него оковы» (то есть надеть кандалы) «для доведения его к прямому понятию о важности преступления»[213], в котором он обвинялся.
Петрашевец Д. Д. Ахшарумов запомнил, что сделала Петропавловская крепость с «головой и фигурой Спасителя», стоявшего у эшафота вместе с другими приговоренными к смертной казни. «Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательною красотою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто — бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились, и под ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо»[214]. (Как установил впоследствии тобольский врач, из крепости к эшафоту Спешнев вышел с начинающейся чахоткой.)
Надо полагать, не слишком много демонического мог заметить Достоевский в лице такого же страдальца, как и он сам.
Так же как и Достоевского, везли Спешнева в открытых санях, закованного в кандалы, через всю Россию из Петербурга в Тобольск. По этапу отправили в Иркутск, а оттуда в Александровский завод Нерчинского округа, на десятилетнюю каторгу, полученную по конфирмации. В ноябре 1853 года мать Спешнева безуспешно просила государя императора послать ее сына в действующую армию, безответной осталась и ее просьба о помиловании. В 1855 году было отказано в прошении на имя графа Орлова о помещении двух мальчиков, незаконнорожденных сыновей Спешнева, в какое‑нибудь учебное заведение — как не принадлежащих к податному сословию.
Петрашевец Момбелли, вместе со Спешневым назначенный в Александровский завод, уже в 60–х годах рассказывал о тяжести перенесенных ими испытаний: «Каждый день меня приковывали к тачке, с которою я и должен был работать целый день, с небольшим отдыхом для обеда, а кормили каторжников крайне дурно, так как приходилось неизменно есть одну только похлебку с требухой и плохим черным хлебом; спали каторжники почти на голых нарах в общеарестантской палате, отдавая свое тело на съедение всяких паразитов!»[215]