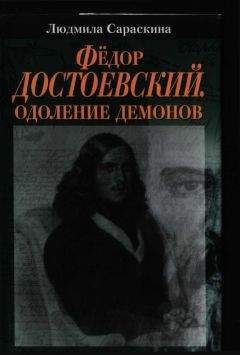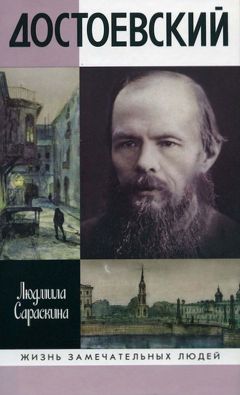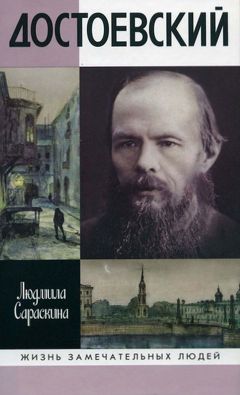Когда в январе 1854 года Достоевский вышел из каторги, он смог узнать первые подробности о судьбе своих ссыльных товарищей — однодельцев. Спешневу еще предстояло шесть лет каторги, но Достоевский смог узнать, что его учитель не пал духом; в сибирском климате прошла чахотка, и, устроив вместе с Момбелли и Петрашевским на Александровском заводе подготовительный пансион для детей, он давал ученикам обоего пола уроки иностранных языков.
Уже невозможно установить, что именно и от кого именно услышал Достоевский о Спешневе в Омске в первые же недели по выходе из острога, — скорее всего, о судьбе каторжников — петрашевцев мог знать К. И. Иванов, женатый на О. И. Анненковой, дочери декабриста И. А. Анненкова, и принимавший в Достоевском горячее участие («Если б не нашел здесь людей, — писал Достоевский брату из Омска, — я бы погиб совершенно. К. И. Иванов был мне как брат родной. Он сделал для меня всё что мог… Чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость как о родном брате…»).
Однако, судя по тому, что Достоевский написал об этом тогда же, сведения были удивительные. «Спешнев в Иркутской губернии приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением». Даже если в этом отзыве и было хоть сколько‑нибудь невольной зависти или горечи, то было ведь и восхищение; как один из благоговевших, Достоевский не мог не считаться с фактом всепокоряющего обаяния Спешнева, способного быть объектом обожания и в доме Панаевой, и в каторжном остроге.
Только десять лет спустя после Тобольска Достоевский увидел Спешнева вновь. Как запомнил Семенов — Тан — Шанский, «он (Спешнев. — Л. C.) казался, несмотря на то что был еще в цвете лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще величественным, старцем»[216]. Встретясь со Спешневым накоротке, дома, у себя на новоселье, Достоевский, хотя бы в самых общих чертах, должен был узнать, что по царскому манифесту 1856 года Спешнев, как и другие, был досрочно освобожден и выпущен на поселение, что о возвращении ему гражданских прав и дворянского звания ходатайствовал сам H. H. Муравьев — Амурский, генерал — губернатор Восточной Сибири, который и привез изгнанника в Петербург.
Почему‑то та часть реальной биографии Спешнева, где он как аристократ, пошедший в демократию, был осужден и понес наказание, Достоевскому совершенно не понадобилась. Герою (Ставрогину) его причастность к обществу заговорщиков должна была аукнуться не каторгой, как прототипу (Спешневу) и автору (Достоевскому), а испытаниями совсем другого порядка. От них не могли спасти ни царские манифесты, ни ходатайства либеральствующих и добросердечных генерал — губернаторов, ни снисходительность гражданских властей, сострадающих обаятельным злоумышленникам.
Глава четвертая. «Это ли подвиг…»
I
Чиновник по особым поручениям при министерстве внутренних дел, действительный статский советник И.II. Липранди, чьими стараниями «процесс о стремлениях»[217] был доведен до смертных приговоров его главным участникам, так комментировал различия между петрашевцами и декабристами: «Обыкновенные заговоры бывают большею частью из людей однородных, более или менее близких между собою по общественному положению. Например, в заговоре 1825 года участвовали исключительно дворяне, и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, вместе с гвардейскими офицерами и чиновниками министерства иностранных дел рядом находятся не кончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком»[218].
Неслужащего и не имеющего чина дворянина Спешнева в этом сравнении смущало другое.
«Декабристы дрались на площади, в народе, а мы только говорили в комнате»[219], — цитировал О. Ф. Миллер запись А. Г. Достоевской, сделанную со слов Спешнева: бывший заговорщик даже и спустя тридцать лет сетовал на почти комическую незначительность своих давних усилий, а власти будто благодарили арестантов за то, что «преступные их начинания не достигли вредных последствий, быв своевременно предупреждены мерами со стороны правительства»[220].
Обложка Следственного дела Ф. М. Достоевского в III Отделении
Между тем Следственная комиссия смотрела на Спешнева как на главного злоумышленника; приговор по его делу клеймил красавца аристократа как крайнего революционер — радикала. За Спешневым числилась заграница, где он в течение четырех лет после смерти возлюбленной, весь отдавшись политической мысли, изучал историю тайных обществ и, опираясь на опыт древнейших заговорщиков, составлял программу новейших закрытых организаций применительно к России. (В канун 1846 года он писал матери: «Еще несколько дней, и 1845 год тю — тю, пропал. Бедовый год, занимательный год, этот год я никогда не забуду — все, что в моей молодости так прекрасно обещало развернуться во мне, — все это в этом году получило свою положительную печать — теперь интрига завязана — актеры на сцене — теперь каждый шаг вперед — два к развязке»[221].)
За границей произошел перелом, действительно подвинувший его жизнь к развязке: теперь в своих устремлениях он обращался не к Евангелию, как в юности, а к сочинениям социалистов и коммунистов, которые упорно изучал. «Жизнь не лежит передо мной загадкой, — писал он матери, — теперь я знаю, на что я живу — что я хочу — как надо сделать, что я хочу, сколько на то надо примерно времени — а посреди моей работы встанет ветер и унесет меня прежде, чем я кончил». Он словно предчувствовал трагический финал: «В действия приношу какую‑то лихорадочность, как будто не хватит жизни, чтоб проглотить все, что написано, а уж пора поприостановиться на чем‑нибудь и делать…»[222]
При обыске у него был найден «Черновой проект обязательной подписки»; нижеподписавшийся член Русского тайного общества брал на себя суровые обязательства, которые надлежало исполнять в точности. «Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании и драке, т. е. (что) по извещению от комитета обязываюсь быть в назначенный час в назначенном мне месте, обязываюсь явиться туда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, или тем и другим, не щадя себя, принять участие в драке и, как только могу, споспешествовать успеху восстания»[223].
Спешнев написал речь, которую читал в собрании у Петрашевского (текст ее также был захвачен при обыске), с возмутительными антигосударственными призывами. «С тех пор как стоит наша бедная Россия, в ней всегда и возможен был только один способ словесного распространения — изустный… так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им без всякого стыда и совести, без всякого зазора, для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете и вам советую то же»[224].
Спешнев предлагал развернуть широкое книгопечатание за границей запрещенных в России книг, совещался с другими о создании домашней литографии и даже решился учредить тайно у себя в доме типографию — на его деньги были приобретены необходимые для этого материалы. Спешнев обсуждал возможности восстания в Сибири и на Урале, и если Петрашевский был скорее усердным пропагандистом социальных учений, рассчитывая увидеть на своем веку фаланстеру и пожить в ней, а также высказывался против бунта и восстаний черни, то Спешнев, напротив, держался самых радикальных воззрений.
«Есть три способа для достижения какой‑либо политической цели, — по свидетельству Львова и Петрашевского, говорил Спешнев на их совещании, — иезуитский, тайной интриги, как предлагают Момбелли, Львов и отчасти Петрашевский, явной пропаганды, как предлагает Дебу, и открытою силою. Если бы мне нужно было действовать, я бы избрал последний, а средством к тому — бунт крестьян!»[225]
Достоевский сблизился со Спешневым в тот момент, когда репутация «замечательно образованного, культурного и начитанного» (Петрашевский) человека, «обрекшего себя на служение гуманитарным идеям» (Семенов), уже устоялась: он слыл и сам себя называл коммунистом, он рассуждал о национализации земли и промышленности, об уравнении в правах всех сословий и уничтожении сословных привилегий. Его имя было замешано во всех опасных начинаниях петрашевцев, он старался поддержать все попытки, которые могли бы привести к реальному революционному делу. «Везде он, Спешнев, был вроде почетного гостя, — докладывали судьи, — оттого всегда его приглашали, зная, что он социалист, а социализм был в моде в этом обществе. Спешнев… должен был казаться очень интересным»[226].