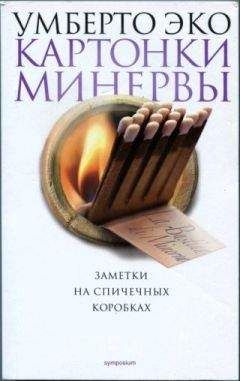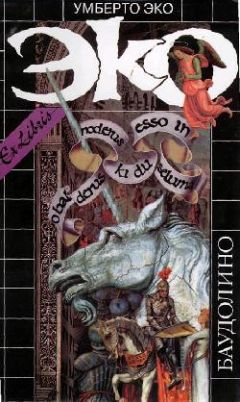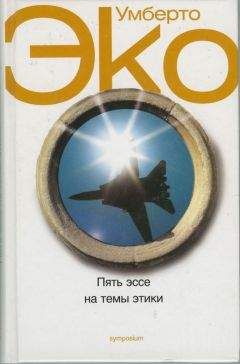Второй аргумент. Свидетель, выживший в концентрационном лагере, говорит, что в Треблинке горы одежды достигали 35-40-метровой высоты. Ревизионист заявляют, что гора такой высоты — это то же самое, что пятнадцатиэтажное здание, что одежду нельзя сложи в такую кучу без помощи подъемного крана, и что эта куча должна была иметь невероятный диаметр примерно в сто сорок метров при площади оснований в 4805 квадратных метров. Для такой горы просто не было места в лагере, и поэтому, делают они вывод, свидетельство ложно.
Аргумент, безукоризненный математически, слаб риторически, потому что не учитывает того, что всякий (особенно тот, кто только что пережил кошмарный опыт или, еще хуже, вспоминает его через какое-то время) имеет склонность к гиперболам. Это как если кто-то, рассказывая о пережитом, заявит, что у него волосы на голове встали дыбом, и мы будем это оспаривать при помощи формального логического аппарата, наглядно показывая, что волосы никак не могут принять строго вертикального положения. Очевидно, что этой гиперболой свидетель хотел наглядно подчеркнуть: то, что он видел, было ужасно и внушало ему страх — вот о чем надо говорить, если уж непременно надо обращаться к здравому смыслу.
Статья Карло Гинзбурга в прошлом номере журнала „Micromega“ (которую я прочитал заодно с книгой, написанной им после первого процесса Софри[40]) заставляет вспомнить о логике ревизионистов. Их позиция состоит в том, что любое свидетельство может быть опротестовано или истолковано по-другому, если в качестве отправной точки использовать утверждение, что Холокоста не было.
Я не настолько развращен или циничен, чтобы сравнивать дело Софри с Холокостом. Чтобы сравнять юридический случай, касающийся трех человек, с исторической трагедией, понадобился бы огромный множитель. Но мне интересен способ рассуждать. Аргументы Гинзбурга убедительны даже для тех, кто, как и я, не связан с Софри долгим знакомством или совместной военной службой. Речь идет только о рассуждениях с точки зрения здравого смысла. И похоже, что процесс, или, точнее, процессы, над Софри (когда мы говорим о «деле», имя Софри выступает как синекдоха, обозначая также Бомпресси и Пьетростефани[41]) были проведены небрежно не в юридическом смысле, а в смысле той естественной логики, которая позволяет нам утверждать в самых разных случаях, что говорящий о вставших дыбом волосах просто хочет сказать, что был очень напуган, а все прочее — недостойные уловки.
Ощущение, которое подсказывает здравый смысл, состоит в том, что Софри был осужден по ошибочным соображениям. Когда я говорю «по ошибочным соображениям», я хочу оставить лазейку для тех, кто считает Софри виновным. Он остается виновным, но рассуждения, на основании которых он был признан виновным, — ошибочны.
Почему процесс Софри привлек такое внимание общественности, даже тех, кто далек от осужденных? По тем же причинам (хотя политический контекст был совсем иным), по которым часть общественности (в то время незначительная) была взбудоражена процессом Брайбанти. Возможно, кто-то еще помнит это дело[42], а если нет — отсылаю к книге того времени, вышедшей под моей редакцией. Никому не известный провинциальный преподаватель — которого, кстати сказать, я не знал ни до, ни после — был обвинен в «принуждении», т. е. соблазнении и развращении двух юношей (обратите внимание — совершеннолетних), которых он побудил к гомосексуальной связи, а кроме того (что казалось еще хуже) — внушил им интерес к богемной жизни и к идеям в спектре от марксизма до атеизма еврейского (sic!) философа Баруха Спинозы.
«Принуждение» вообще трудно сформулировать, даже когда случай более очевиден и касается преступления в отношении несовершеннолетних. Но еще менее понятно: если кто-то склонил двоих совершеннолетних к сексуальным отношениям, можно ли это вменять ему в вину? Тому, кто следил за процессом и читал сотню страниц дела и окончательного приговора, было предельно ясно, что в этом процессе были нарушены все правила логики и здравого смысла, — следствия путались с причинами и наоборот, а в качестве отягчающего обстоятельства предъявлялся тот факт, что обвиняемый посвятил себя изучению жизни муравьев и у него в ящиках стола хранились странные, любопытные, неподобающие этому месту предметы и тому подобное[43].
Та часть общественности, которая следила за процессом, сделала то единственное, что она могла или должна была сделать: скрупулезно исследовать документы и указать на все изъяны разбирательства — изъяны, которые были даже скорее психологическими, чем юридическими. В конце концов Брайбанти был оправдан по апелляции. Нет необходимости уточнять, был ли он симпатичен, можно ли одобрять его идеи и его сексуальные наклонности: просто не было преступления — по крайней мере если не считать таковым гомосексуализм; но как раз это и оказалось одним из элементов, которые сбили с толку следствие, — что и ужасно.
Почему я сейчас вспоминаю этот случай? Потому что в конце концов продуманные и целенаправленные выступления о главной сути дела (в процессе полно изъянов), несомненно, заставили суд смягчить приговор. Если бы, наоборот, гомосексуалисты вышли на улицы с требованиями освободить Брайбанти, потому что один из них, — боюсь, он до сих пор сидел бы в тюрьме.
А теперь вернемся к делу Софри. Большинство выступлений в его защиту, как бы ни были они разукрашены, основываются на том, что «я хорошо его знаю, он не мог совершить ничего подобного». Я нахожу эти выступления если не опасными, то уж точно совершенно бесполезными. Взывать к моральным качествам — это очень слабый аргумент в любом процессе, хотя бы по тому универсальному правилу, что совершающий преступление за секунду до него еще не был преступником (по крайней мере если быть радикальным ламброзианцем). Моральные качества дорогого стоят в личном плане, но не в процессуальном. Что еще хуже, нельзя сказать, что они вообще ничего не стоят: когда их настойчиво выносят на всеобщее обозрение, они могут только навредить, потому что вынуждают судей сопротивляться тому, что они воспринимают как психологическое давление со стороны тех, кто находится в сговоре с обвиняемыми. От друзей — храни нас Боже!
Возможно, настороженное отношение к защите с позиции «да я его хорошо знаю» — это мое личное предубеждение. Но я настаиваю, что, если кто-то обвиняется в уголовном преступлении, помочь ему может тот, кто располагает доказательствами, что преступления не было, и в этом случае он должен немедленно предъявить их в прокуратуре, либо он взывает только к моральным соображениям, но в этом случае он должен осознавать, что юридически они ничтожны. Поборник гражданских прав — это не тот, кто действует потому, что убежден в невиновности кого-то, а тот, кто действует потому, что должны соблюдаться права этого «кого-то» на скорый и справедливый суд.
Другой эмоциональный аргумент, который мы слышим «под шумок», сводится к тому, что несправедливо осуждать кого бы то ни было за преступление, совершенное двадцать лет назад, ведь с того времени его жизнь изменилась глубочайшим образом. Абсурдный довод; это все равно что утверждать, в общем, что время гасит преступление. Этот двусмысленно-эмоциональный аргумент используют те, кто заявляет о невиновности Софри, — и в то же время, желая видеть его на свободе, потому что он невиновен, они готовы признать его преступником, который, насколько им известно, со временем исправился. И опять — от друзей храни нас Боже!
Двусмысленными мне кажутся и все призывы к президенту Республики подписать помилование, и я нахожу совершенно справедливым и естественным, что сами обвиняемые первыми отвергают решение подобного рода. Это очевидно: если я заявляю о своей невиновности, я не могу желать помилования, я желаю только, чтобы выяснилась моя невиновность. Принять помилование значит признать свою вину. В третий раз — от друзей храни нас Боже!
А еще возникла солидарность «в грешках». Софри и поныне все еще цинично используется как клин, чтобы разрушить репутацию разных прокуратур, его помилование стало отмычкой для других случаев, для того, чтобы отменить судебную процедуру. Показать, что процесс Брайбанти был порочным — совсем не значит показать, что плохо сделали, осудив «Мыловарницу»[44] или чудовище с виа Салария[45]; это значит только показать, что в том процессе были нарушены все нормы юриспруденции, — а это совсем другое дело.
Как происходит в гражданском обществе? Так, как это сделал Золя для Дрейфуса, устраивая процесс над процессом, что и является правом/обязанностью склонного к истерикам общественного мнения. И это как раз то, что сделал Карло Гинзбург после приговора 1990 года. Поэтому гораздо важнее читать и перечитывать его книгу, публиковать из нее обширные выдержки в газетах и журналах, а не подписывать бесконечные воззвания. Причем Гинзбург откровенно начинает с того, что открывает карты (более того, можно сказать — открывает, как сомнительны его карты), заявляя, что начальным толчком к написанию этой книги бы то, что Софри — его личный друг. После этого вступления он больше не говорит в эмоциональном ключе: он анализирует свидетельские показания, материалы допросов, улики, аргументы и контраргументы, и у того, кто прочитает эту книгу, сложится убеждение, что этот процесс, изначально основанный на уликах, вызывает большую озабоченность, потому что улики оценивались по весьма спорному принципу: всякое свидетельство или улика защиты отвергались, если противоречили свидетельству обвинения.