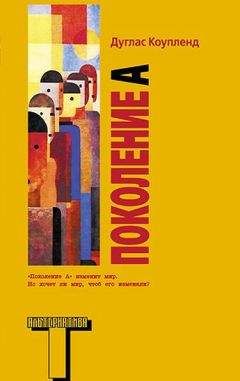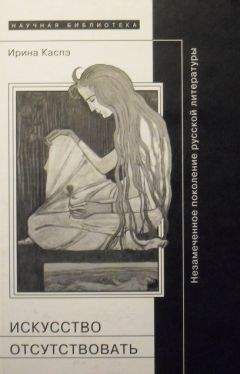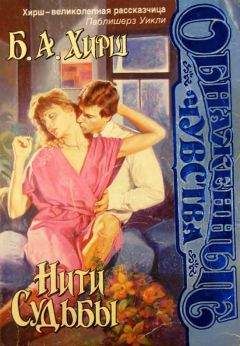но также в работах и инсталляциях Эвы Хоффман, Кристиана Болтанского, Шимона Атти и в экспозиции недавно открытого в Вашингтоне Мемориального музея Холокоста), могут отодвинуть на периферию критические и теоретические аспекты темы семейной фотографии, с которой я начала свой проект. Я вдруг осознала, что отправная точка моей работы, моя внутренняя позиция – это позиция дочери выживших жертв Холокоста – выживших не в лагере, а среди преследований, выселения в гетто и изгнания.
Я писала как человек, получивший в наследие далекое и непостижимое прошлое, к изучению которого я только подступалась, пытаясь различить его с большой исторической и поколенческой дистанции. Семейные фотографии стали инструментом передачи постпамяти для меня самой и помогли мне определить это понятие, пусть еще не вполне прояснив его и не дав достаточно на нем сфокусироваться. Такая фокусировка стала возможной благодаря двум следующим книгам – «Призраки дома» и «Поколение постпамяти». Обе они были созданы под влиянием образов и историй, которые захватили меня и вдохновляли еще многие годы.
Наша с Лео Шпитцером книга о посмертном существовании родного города моих предков в еврейской памяти была по существу работой постпамяти и о постпамяти. «Призраки дома» возникли из «путешествия домой», которое мы с Лео совершили в сегодняшние украинские Черновцы вместе с моими родителями и которое наконец позволило мне укоренить мои поствоспоминания в конкретном времени и пространстве. Эта книга появилась из остро ощущавшейся нами потребности рассказать малоизвестную историю культуры моей семьи, космополитической культуры сильно ассимилированного восточноевропейского еврейства, уничтоженной и изгнанной с родных мест, но сохранившейся в памяти и идентичности ее выживших представителей и их детей. Сообща работая над «Призраками дома» – несколько раз путешествуя в Черновцы, в Румынию, по Западной Европе и Израилю, а также по всем Соединенным Штатам, чтобы собрать устные свидетельства выживших, включая членов моей семьи и друзей, – мы могли критически и теоретически осмыслить способы работы памяти и передачу воспоминаний от поколения к поколению. Не всем этим размышлениям нашлось место в книге, написанной для широкой публики и посвященной узкой и конкретной теме. Наш анализ методологических подходов, задействованных в работе постпамяти, размышления об архивах и объектах, которые мы использовали, чтобы записать эту историю, обрели форму докладов на конференциях, лекций и двух совместно написанных эссе, которые я включаю в это издание. Мои собственные эссе о памяти, визуальности и гендере были, конечно же, вдохновлены этой личной работой постпамяти, но также появились на свет благодаря теоретическим дискуссиям в развивающейся области исследований культурной памяти; благодаря преподаванию, в том числе и совместно с Лео, курса, посвященного Холокосту, памяти и свидетельствам; и как ни странно, благодаря моему лихорадочному изучению изображений и свидетельств, рассказывающих о пережитом в лагерях – об опыте, которого посчастливилось избежать моим родителям. Десятки лет я пряталась от этих картинок и текстов, но сейчас поняла, что должна посмотреть на них и постараться понять.
Впрочем, дискуссии, которые вдохновили нас на создание настоящей книги и повлияли на нее, которые велись в ходе нашей совместной работы с Лео, в учебных аудиториях, на конференциях и на страницах журналов, книг и специальных изданий, не носили только ученый или профессиональный характер: многие из них были ярко, пронзительно личными. Оказалось, что в конце 1980-х, в 1990-е и начале 2000-х годов многие из моих друзей и коллег по феминистскому сообществу обратились к изучению памяти и травмы; их сподвигли к этому личные мотивы, с одной стороны, и политические взгляды, с другой. На завтраках и ланчах, за кофе и напитками на многочисленных конференциях и в университетских кампусах, где я рассказывала об этом исследовании, я узнавала семейные истории, в том числе крайне травматичные, от коллег, с которыми мы были знакомы годами, но никогда прежде не касались этой темы. Мы начали беседовать о том, что значит быть представителями «второго поколения», детьми переживших Холокост, или теми, кто сам пережил Холокост в детстве, – Лео назвал этот опыт принадлежностью к «поколению-1,5». Был ли наш опыт схожим? Можно ли увидеть в этом нечто вроде синдрома? Был ли этот опыт различным для детей, выживших в лагере, в изгнании, бежавших на Восток, в СССР, или на Запад, в США, с поддельными документами или со специальными пропусками, как мои родители? По-разному ли переживали это те, чьи родители с готовностью рассказывали о своем опыте, и те, чьи отцы и матери хранили молчание? Чем были важны для нас их истории, что двигало нами, что было причиной нашей настойчивости? Почему это случилось именно теперь? Присваивали ли мы их истории, слишком настойчиво идентифицируя себя с ними, быть может, – непросто в этом себе признаваться – даже чувствуя зависть к их жизненной драме, которой в нашей жизни не было? Не делали ли мы карьеру на их страданиях? А как насчет других травматических историй – рабства, диктатур, войн, политического террора, апартеида? Среди тех, с кем я путешествовала, я встретила исследователей феминизма, известных своими работами о женщинах – писателях и художниках, теоретическими статьями о сексе и гендере, власти и социальных различиях. Как и я, они начали открывать для себя свои личные истории: кто-то опосредованно, кто-то более явно – благодаря обращению к критическому и теоретическому осмыслению травмы и проблемы передачи травматического опыта. Но хотя для всех нас, работавших с разными сторонами травмы и разными историческими контекстами, тема памяти носила напряженно личный и неотступный характер, она вовсе не обязательно вплеталась в личные или семейные истории.
Оглядываясь назад, я вижу, что вместе с моими соратниками в феминистском сообществе я обратилась к исследованию памяти, движимая убеждением, что, как и феминистское искусство, литература или академическая наука, она снабжала меня инструментами, позволяющими обнаружить и восстановить переживания и жизненные истории, которые иначе могли бы остаться недоступными для историка. Как форма контристории «память» предлагала средства осмысления того, как структуры власти задействуют механизмы забвения, забытья и стирания былого опыта, а тем самым и средства его восстановления и переосмысления. Она предлагала формы восстановления справедливости, свободные от ограничений, свойственных господствующим строго юридическим процедурам, а также средства защиты и отстаивания прав отдельных лиц и групп, чьи истории и опыт еще не получили осмысления.
В то же самое время феминизм и другие движения за социальные изменения обусловливают возникновение важных направлений в исследовании памяти и работе с ней. Они делают активизм неотъемлемой частью науки. Они сделали возможным анализ эмоции, телесности, частного и интимного пространств как материала исторической науки, перемещая наше внимание на кажущиеся незначительными события повседневной жизни. Они чувствительны к особой уязвимости жизни,