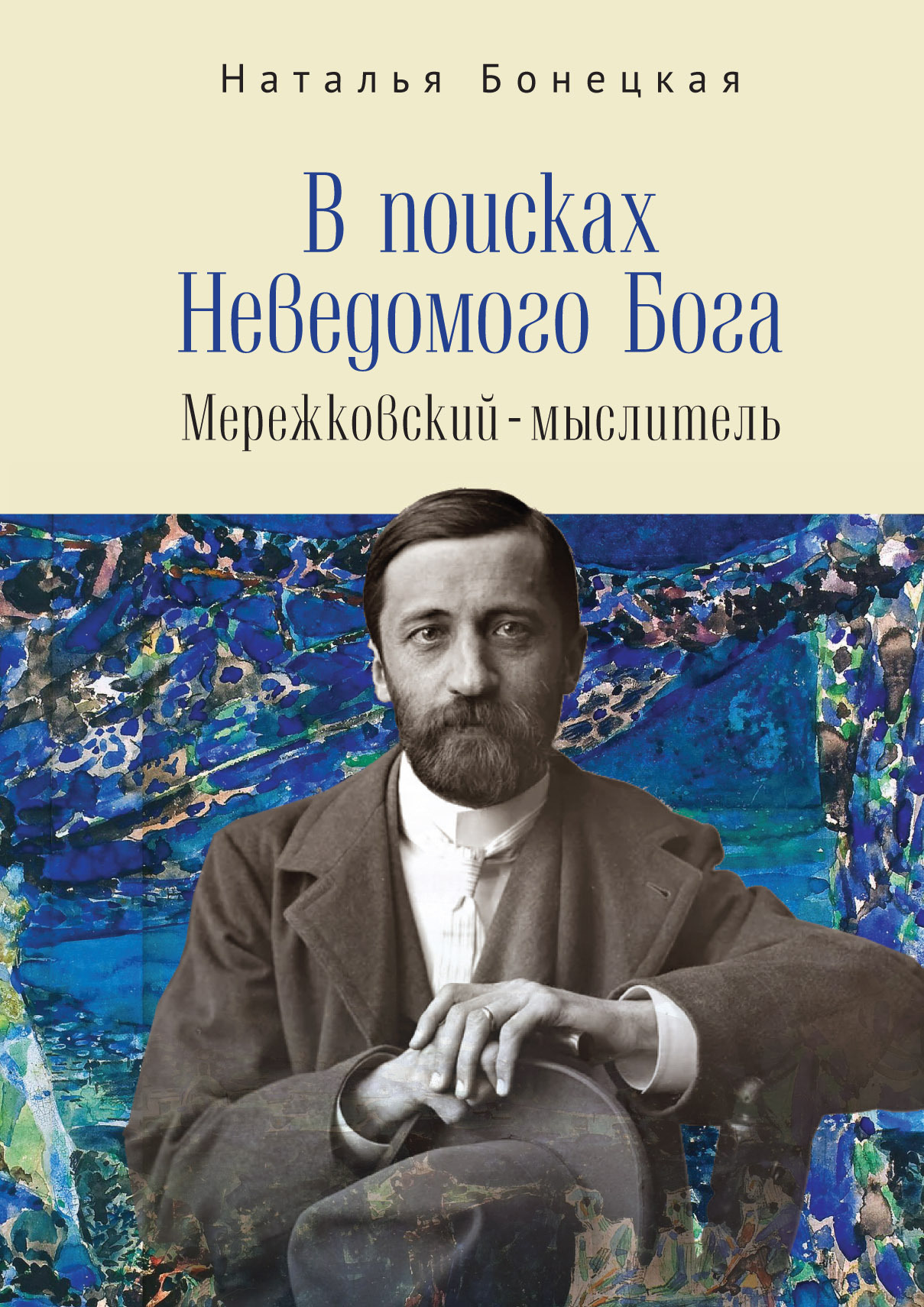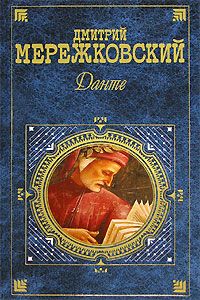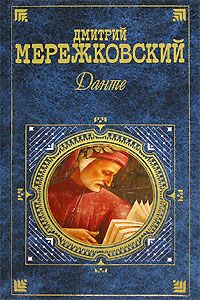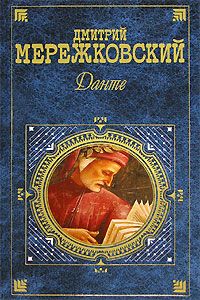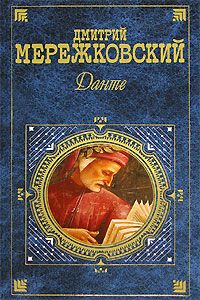апостолов с воскресшим Учителем – события примерно одного порядка в глазах Мережковского.
* * *
Герменевтика Мережковского, т. е. интерпретация литературно-художественных текстов, опирается на его экзегетику – интерпретацию Нового Завета. При этом замечательно то, что герменевтика как таковая, которую в связи с Мережковским принято называть «критикой», в определенном смысле тоже является экзегетикой! Мы уже замечали, что Мережковский фактически сакрализовал опыт русской литературы XIX в.: художественные тексты для него – если и не новое Священное Писание, не собственно «Третий Завет», то пролегомены к нему Потому анализ романов и стихов, обыкновенно относимый к рутинной и профанной области литературоведения, у Мережковского оказывается чем-то вроде «третьезаветной» экзегезы. Речь идет об интерпретации текстов с опорой на предмнение нового религиозного сознания. Заступимся за Мережковского: да, он входит в многочисленные герменевтические круги с данным предмнением, однако выходит из них с богатым уловом, – например, с выразительными и точными духовными портретами Гоголя, Толстого, Пушкина, Тургенева… Герменевтика Мережковского приносит свои плоды и в области философской антропологии.
О том, как возникло в его сознании подобное предмнение, как в его душу ворвалась «буря света» новой религии [52], можно только догадываться. Андрей Белый, глубже других понимавший Мережковского, встраивал в его биографию событие своеобразного «посвящения» соловьевского типа: «Красота мира явилась ему в Лике Едином» [53]. Сам Мережковский сообщает в очерке «Акрополь», действительно, о своем инициирующем мистическом опыте красоты, пережитом им в 1892 г. во время путешествия в Грецию. При виде величественных храмов богини Афины «в душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. <…> Все двадцать болезненных и скорбных веков остались <…> за священной оградой, и ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии <…>…И не было времени: мне казалось, что это мгновение было вечно и будет вечно» [54]. Встреча с красотой сообщила смысл жизни Мережковского, а вместе с тем была им воспринята, как платоновское воспоминание: «Мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах» [55]. Эстетизм Мережковского, обыкновенно понимаемый весьма поверхностно, на самом деле проистекает из этого его опыта приобщения к вечности, опыта религиозного порядка. Книгу Мережковского о любимых писателях «Вечные спутники», открывавшуюся «Акрополем», как замечала в своих воспоминаниях о супруге 3. Гиппиус, было принято дарить успешным гимназистам на выпускных вечерах. Понимали ли тогдашние наставники молодежи, что этот безобиднейший, казалось бы, и даже назидательный томик содержит в себе динамит «великой духовной революции», которая, по мысли автора сборника, сметёт с лица земли Церковь, и монархическое государство?
Между тем, исток воззрений Мережковского надо искать именно в очерке «Акрополь». Та «святыня», которую этот путешественник обрёл на месте поклонения Афине, включает в себя и мечту о «новом эллине, богоподобном человеке на земле», и задание примирения с природой, и пафос «героизма», «счастья», свободы, покоя. В греческих архитектурных формах, как бы продолжавших природные облики, Мережковский распознал одну лишь винкельмановскую светлую античность, и с этого момента в его душе стало быстро всходить семя неоязычества [56]. Мережковского захватила утопия золотой поры человечества, упразднённой жестоким пустынным духом семитства: «Всё, что доводит нас до невыносимых противоречий – небо и земля, природа и люди, добро и зло, сливалось для древних в одну гармонию» [57]. Позже его «новое религиозное сознание», встав под знак Ницше, окрасилось трагизмом и антихристианским демонизмом. Эту-то духовность Мережковский попытался скрестить с евангельской образностью и назвал причудливый гибрид «новым христианством».
Литература и религиозная философия
Новейшая русская религиозная философия возникает как критическое осознание духовного опыта русской литературы XIX века: обоснованию этой мысли посвящена статья Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892). Предлагая философу идти от текста, а не от реальности, но допуская, что реальность в тексте каким-то образом манифестируется, мыслитель по сути подразумевал философию герменевтического типа. Главной ее категорией Мережковский считает «символ» [58] как «откровение божественной стороны нашего духа» – духа писателей, в свою очередь объявленных им «рыцарями Духа Святого» [59]. «Литература – своего рода церковь», в которой обитает «гений народа», – на разные лады провозглашает Мережковский «возрождение свободного религиозного чувства» в творениях русского гения [60]. «Чувства» – но не религиозного сознания, внести которое в мистический опыт нового искусства и призвана «символическая» или «новая критика», являющаяся «культурным самосознанием народа» [61]. «Мы должны вступить из периода поэзии – творческого, непосредственного и стихийного, в период критический, сознательный, культурный» [62]: пока Мережковский набрасывает лишь абрис своей будущей герменевтики – «субъективной критики» и религиозной проповеди [63].
На протяжении всей своей творческой жизни Мережковский считал себя «критиком»: его «воля к мысли» реализовалась как «критика», которая «в своем высшем пределе <…> должна быть творческой», – более того – «пророческой мыслью», писал он в 1920-е годы [64]. Но под «критикой» он понимал отнюдь не жанры Белинского, Добролюбова, Писарева и т. д.: первым опытом «русской критики» в «новом, нашем» смысле он считал «Переписку с друзьями» Гоголя. Об этом говорится в исследовании 1906 г. «Гоголь и черт», самом блестящем образце герменевтической практики Мережковского. В «Переписке» – «конец поэзии и начало религии», «переход от бессознательного творчества к творческому сознанию». Так определяет Мережковский попытку автора «Мертвых душ» истолковать свои собственные сочинения в религиозном, а вместе и исповедальном ключе. В критике, по Мережковскому, литература обретает самосознание, и потому она – «вечное и всемирное религиозное сознание» [65]. «Критика», как видно, отождествляется им с религиозной философией. Русская герменевтика в ее истоках, в отличие от немецкой, декларативно религиозна.
Однако религиозность эта – «новое религиозное сознание», новое христианство Мережковского. «Святая плоть» – одна из ключевых категорий этого «нового богословия». В трактате «Гоголь и черт» данная категория привязана к символистской эстетике: «художественный образ есть все-таки не бесплотная духовность, а одухотворенная плоть или воплощенный дух», почему «в искусстве начало религии, начало святой плоти» [66](выделено мной. – Н. Б.). Этого «Гоголь не сознавал с ясностью <…>, только смутно прозревал», так что здесь прерогатива и миссия нового религиозного сознания.
Как видно, Мережковский, по существу, сакрализовал великую литературу, видя в ней начало новой религии. В книге «Пути русского богословия» Г. Флоровского, нередко пользующегося открытиями герменевтики Серебряного века, есть яркие очерки о Гоголе, Достоевском, Толстом и др., – Флоровский усматривал в литературных шедеврах образчики богословия, как правило, отклоняющегося от норм православия. Но то, что в глазах церковного мыслителя выглядит мирским вольномыслием, а то и еретическим соблазном, зачастую освящается в новом христианстве Мережковского. Так, «Переписка»