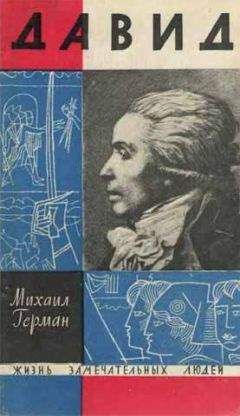пуантилизме.
В Салоне отвергнутых 1885 года, устроенном в бараке, построенном на месте сожженного в 1871 году Тюильри, можно было видеть две картины Сёра, выполненные в необычной манере — крошечными точками (points) чистых цветов.
Новая система чрезвычайно заинтересовала Писсарро. И это увлечение стало не только событием в развитии его искусства, но и симптомом несомненного кризиса, который Писсарро, с его обостренным чувством профессиональной ответственности, ощущал острее других. Прологом не к закату импрессионизма, не к последней его выставке (1886), а к тем благотворным сомнениям, которые становятся прологом подлинного, хотя и не безболезненного прогресса.
Там, где Сезанну достаточно было своего могучего гения, художнику иного дара, склонному к аналитическому мышлению, понадобились система и теория.
Пуантилистический метод не возник в процессе художественной эволюции, но был именно изобретен Жоржем Сёра. Изобретение это не было случайным и возникло в процессе естественной полемики с импрессионизмом. Двадцатишестилетний Сёра был представлен пятидесятипятилетнему Писсарро Гийоменом в 1885 году: Писсарро, выслушавший в своей жизни немало концепций и теорий, сумел не потерять к ним интерес.
Высказывания Сёра — вскоре Писсарро увидел его программное произведение «Воскресный день на Гранд-Жатт» (1884–1886, Чикаго, Художественный институт) — не были пустыми словами: его художественная практика доказывала, что новый метод способен приносить поразительные художественные результаты. То, что для импрессионистов было средством (оптическое смешение красок) передачи ощущения от цвета и света в природе, для Сёра стало инструментом реализации совершенно абстрагированного, но объективно точного представления о мире, основанного не на эмоциях или интуиции, но на оптическом анализе.
Жорж Сёра. Воскресный день на Гранд-Жатт. 1884–1886
Бесстрастным и точным взглядом Сёра каждая, даже самая небольшая поверхность анализировалась, «препарировалась»: локальный цвет, цвет солнца или рефлексы неба, окружающих предметов etc. Каждому из цветов соответствовало определенное, математически выверенное количество точек соответствующего чистого цвета («Мелкоточечная живопись!» — презрительно формулировал Ренуар). Цвет и свет «разлагались на множители» и затем синтезировались уже в глазах зрителя — это ошеломило Писсарро, всегда тяготевшего к известному позитивизму и уставшего от неопределенности импрессионистической манеры и грубости собственной техники. Тотчас же он пробует на практике новый метод: наконец он добивается яркости красок, сохраняя деликатность фактуры!
Дега в таком же восторге от «Воскресного дня»: он сам порой прибегал к настолько нетрадиционным приемам, что ничто не казалось ему слишком дерзким. Достаточно вспомнить его скульптуры, где условность изысканно и остро сочеталась с натурализмом, достойным Музея Тюссо, как, например, «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» (1879–1881, Нью-Йорк, Метрополитен-музей), исполненная в бронзе, но частично раскрашенная и одетая в юбку из желтоватого атласа, с тюлевой лентой в волосах.
Что и говорить, «Воскресный день на Гранд-Жатт» Жоржа Сёра — это действительно принципиально новое явление: огромные, почти неподвижные фигуры, скомпонованные с тревожным и безупречным равновесием, равнодушное сияние красок, положенных на холст одинаковыми точками, некое рациональное величие, аскетическое и роскошное одновременно. Минимум личного, максимум объективности. Точно в такой же технике стал работать и Писсарро. На последней, Восьмой выставке импрессионистов в центре внимания оказались пуантилисты — «неоимпрессионисты», как чаще называли их тогда, иными словами — художники, во всем импрессионистам противоположные.
Следует все же признаться: имперсональность, провозглашенная Сёра, куда в большей степени царила в картинах его последователей — Синьяка, Писсарро и его сына Люсьена (все четверо выставились в одном зале), чем в его собственных. Чувство подлинной монументальности, странно соединенное с некоторым даже сарказмом, умение построить схематизированный, но крайне индивидуальный, характерный объем — все это позволяло узнавать именно его, Сёра, картины.
Но чтобы надолго подчинить свое искусство даже столь увлекательной доктрине, как пуантилизм, Писсарро обладал слишком мощной индивидуальностью. Деспотизм Сёра, настаивавшего на непременности и неуязвимости своей системы, также раздражал Писсарро, не принимавшего всякую нетерпимость. На его персональной выставке в феврале 1890 года в галерее Буссо и Валадона, устроенной при деятельном участии Тео Ван Гога, пуантилистических работ уже почти нет. Художник не смог растворить индивидуальность в системе и мастерски использовал лучшее из технических приемов Сёра. Еще в начале минувшего 1889 года, отказавшись от точек, он стал писать, как сам говорил, «пассажами» («passage» по-французски означает «перетекание, проезд, отрывок текста», для Писсарро же — скорее удар, отрывистый мазок).
Но только через несколько лет, уже после смерти Сёра, Писсарро со всей определенностью мог признаться (в письме к ван де Велде): «Очевидно, я не был создан для такого искусства, оно производит на меня впечатление все уравнивающего безразличия смерти» [269].
Тем не менее недолгий, но глубокий и серьезный искус пуантилизма для Писсарро оказался принципиально важным. Как и с давних пор, в искусстве Сезанна, в работах Сёра и Синьяка Писсарро искал и находил структуру и основательность. И несомненно, многое от них взял, отказавшись от их рационального максимализма: «…Следуя этим теориям, невозможно оставаться верным своим ощущениям, следовательно и передавать жизнь и движение, невозможно оставаться верным мгновенным и восхитительным эффектам природы, невозможно придать творчеству индивидуальный характер» [270]. Писсарро вернулся к самому себе, даже, по мнению некоторых исследователей, приблизился к манере Моне семидесятых годов. Это, однако, неточно: речь идти может лишь о близости мотивов.
Полное признание пришло к Писсарро только в 1892 году, после персональной выставки у Дюран-Рюэля. Тогда и в самом деле в его холстах ожила юность импрессионизма, но обогащенная плодотворными сомнениями, многолетним опытом, а главное, зрелой, сложившейся индивидуальностью. И он вновь обращается к городскому — прежде всего парижскому — пейзажу.
Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже. 1897
Камиль Писсарро. Парижские пейзажи. «Я остановился в просторной комнате Гранд-отеля де Рюсси по улице Друо, 1, откуда видна вся анфилада бульваров почти до ворот Сен-Дени, во всяком случае до бульвара Бон-Нувель» [271]. Отсюда Писсарро станет писать Париж, Большие бульвары, как четверть века назад — его старый друг Клод Моне.
По понятиям той поры, Писсарро — старик, ему шестьдесят седьмой год; он прожил трудную жизнь, стал много болеть.
Стоит еще раз напомнить: новый Париж, его масштаб, его чуть обезличенный шик, его новую поэзию впервые поняли и почувствовали именно импрессионисты, как в литературе — Золя.
Четверть века, отделяющая Первую выставку импрессионистов от парижских пейзажей,