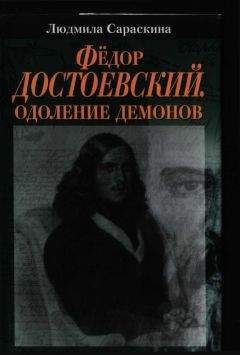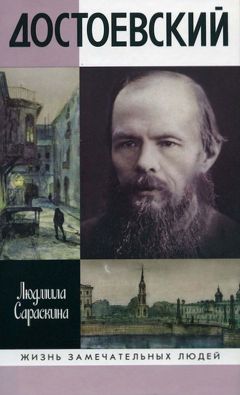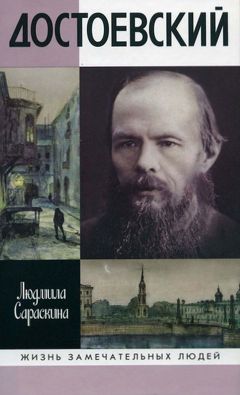— Нет, не ревизором; ревизором будете не вы; но вы член — учредитель из‑за границы, которому известны важнейшие тайны, — вот ваша роль… Довольно, пришли. Сочините‑ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности, и только, больше ничего не надо; очень нехитрая вещь».
Если, допустим, Достоевский слышал историю от одного из трех ее участников (третьим стал Черносвитов, которому Петрашевский рассказал, что «Спешнев, желая более заинтересовать его, Черносвитова, намерен был представиться пред ним главою партии коммунистов в России, а это он, Черносвитов, считал неблагонамеренным и возмутительным»[242]), почему он радикально изменил в ней роль Спешнева, фактически обелив его? Или он намеренно не хотел так примитивно ронять достоинство аристократа, связавшегося с революционным сбродом, даже если этот аристократ сам замарал себя попыткой постыдного фарса?
В «Записке о деле петрашевцев», составленной Львовым и Петрашевским, содержалось важное замечание относительно Спешнева и его поведения на следствии. «Тон его показаний был тон насмешки — презрения ко всем почти участвовавшим в этом деле. Он хотел показать, что серьезного дела нельзя было и замышлять с такими ничтожными людьми и что он один только между ними имел преступные намерения, а отвернулся от этой молодежи потому, что не находил в них опоры. Он предполагал, может быть, что спасет этим других и один сделается интересной жертвою»[243].
Общество, собиравшееся у Петрашевского, Спешневу не нравилось и, как он признался на следствии, казалось ему каким‑то грубоватым и необразованным. Визит к Спешневу Плещеева и Достоевского, явившихся однажды с предложением сходиться узким кругом знакомых в другом месте, а не у Петрашевского, где, по их мнению, полно шпионов, Спешнев интерпретировал как страх перед полицией; мысль о таких безопасных сходках, считал Спешнев, «родилась у людей робких, которые желали просто разговаривать, но боялись, что им за каждое слово может достаться»[244].
Вряд ли Достоевский совсем избежал участи презираемого, хотя и состоял при Спешневе его агитатором; однако, хорошо зная мотивы спешневского высокомерного обращения с робкими и трусливыми кружковцами, радикально изменил эти мотивы, лишив их какого бы то ни было геройства и революционной романтики. Вообще, выходило так, что роль аристократа, затесавшегося среди политических пропагаторов и агитаторов, за двадцать лет, разделивших петрашевцев и нечаевцев, претерпела болезненные изменения: измельчала, опошлилась, приблизилась к чистой уголовщине.
Или — в корне изменилось отношение бывшего спешневца Достоевского к столь обаятельной когда‑то для него фигуре.
Ставрогин, освобожденный от коммунистических иллюзий Спешнева и его радикальных планов, сильно корректировал образ прототипа; лишенный ореола героя — мученика за правое дело, он утрачивал и значительную долю спешневского уникального обаяния.
Ставрогин в предсмертном письме к Даше признавал: «Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, — я смешного не могу испугаться, — а потому, что все‑таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними».
Давая показания Следственной комиссии, Достоевский, избавленный от каких бы то ни было внешних влияний камерой — одиночкой, говорил почти о том же и в тех же словах. Отрицая за собой вину как радикала и революционного экстремиста, но и не клеймя за это других, ему хорошо известных лиц, он утверждал: «Не думаю, чтобы нашелся в России любитель русского бунта… Всё, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, всё то постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось, кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно многим из тех, кто меня знает».
Интересно, однако, было ли известно Спешневу это мнение Достоевского?
На вопрос следствия: «С которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?» — Достоевский, уверяя, что никогда не был социалистом, а лишь любил изучать социальные вопросы, ответил прямо‑таки по — ставрогински: «Злобы и желчи во мне никогда не было».
Личность Спешнева под пером Достоевского преображалась таким образом, чтобы крайний радикализм аристократа — коммуниста был или психологически невозможен, или попросту смешон. И Ставрогин, втянувшись в общество заговорщиков по праздной прихоти, оказывался едва ли не главным обличителем «наших»; открыто презирая их, демонстрируя неповиновение политическому вождю и протестуя против террористической акции, он задним числом исправлял ошибки — те, которые признавал Достоевский и за собой, и за Спешневым.
Однако просто умерить революционные амбиции Ставрогина — Спешнева и дегероизировать Сюжет Достоевскому казалось недостаточным. Требовалась более масштабная сатисфакция, более решительный пересмотр «давнопрошедшей истории», как называл Достоевский историю петрашевцев. Авторская фантазия вторгалась в реальные события прошлых лет и перекраивала их, приписывая участникам такие поступки, на которые тогда они были неспособны — по робости, слабости или недомыслию.
И вот Шатов, ученик и приспешник Ставрогина (на эту пару явно были ориентированы реальные взаимоотношения Достоевского и Спешнева), в сильнейшем потрясении, почти умопомрачении выкрикивал в лицо своему кумиру немыслимые, неслыханные слова: «Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это ли подвиг Николая Ставрогина! — вскричал он чуть не в отчаянии. Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия».
Надо полагать, в тот момент, когда написались столь мучительные для Достоевского — спевшневца строки, они, может быть, явились сюрпризом для него самого. Надо полагать, что в те времена, когда он был еще вместе со своим Мефистофелем и был его, он не осмеливался на подобные дерзости. Но он смог выговорить эти слова, находясь в другом измерении, в другой точке времени и пространства — там, где сходились вместе Спешнев и Ставрогин, Шатов и он, Достоевский, бывший участник малого спешневского кружка, куда он по поручению Спешнева вербовал Майкова, чтобы «произвести переворот в России».
«Это ли подвиг Николая Ставрогина!» — восклицал Шатов; по логике событий и справедливости ради Достоевский мог бы, имея в виду историю с прототипами, продолжить список имен, включив в него как минимум и Спешнева, и самого себя. Этого требовал долг памяти и то понимание Сюжета, которое возникло на пересечении двух замыслов и двух заговоров — романа о своей революционной молодости и памфлета о политической злобе дня.
IV
Знаменательно, что в «Бесах» отыскались и следы старинного денежного долга.
«— …Мне известно, — объяснял Шатову Ставрогин, — что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашею поездкой в Америку и, кажется, тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился…
— Высылкой денег; подождите, — остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из‑под бумаг радужный кредитный билет, — вот, возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни».
Важно, что нищий Шатов отдал из последних денег, фактически из подаяния, ту самую сумму, которую в крайнюю минуту брал в долг, — для него сто рублей были такие же гигантские деньги, как для Достоевского пятьсот. Важно, что Ставрогин долги своих должников принимал деньгами, а не услугами. Роман исправлял действительность: герои, наученные горьким опытом прототипов, в особо щепетильных случаях старались вести себя строже и осмотрительнее.
Громко аукнулась в романе и еще одна таинственная история, восходящая к событиям двадцатилетней давности.
Из показаний подсудимого Спешнева: «Под влиянием разговоров в обществе Дурова он, Спешнев, решился было устроить у себя типографию и упросил подсудимого Филиппова заказать разные части типографского станка. Впрочем, как и всегда, едва приступил к исполнению худого намерения, стал раздумывать и старался только получить от Филиппова все вещи, чтобы они не оставались в его руках»[245].