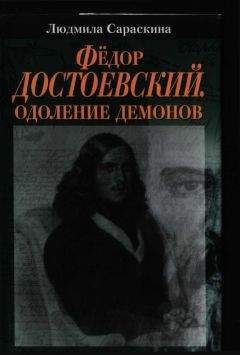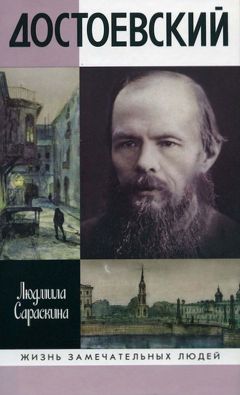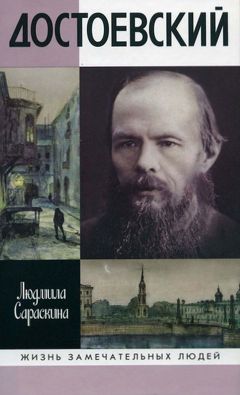Спешневу возражал Филиппов. «Он, Филиппов, недели за две до ареста вознамерился устроить уже не литографию, а типографию и действовать независимо и в тайне от других, предполагая собирать и распространять печатанием такие сочинения, которые не могут быть напечатаны с дозволения цензуры. С этой целью он, Филиппов, занял у Спешнева денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и оставлены, по его вызову, в квартире его. Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне»[246].
Спешнев все же настаивал, что мысль о заведении типографии принадлежит именно ему, а не Филиппову и что Филиппов напрасно в этом случае берет на себя вину.
О степени искренности признаний и Спешнева и Филиппова можно было судить по письму Майкова, уже частично здесь цитированному. «Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, Мордвинова… Когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали.
Заключение генерал — ayдиториата по делу Ф. М. Достоевского
По уходе Комиссии и по уводе Мордвинова — домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена. Обо всем этом деле Комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал»[247].
Типография, не найденная при обыске, не отяготившая вины Спешнева (давшего деньги на ее изготовление), Филиппова (сделавшего чертежи и для конспирации заказавшего детали станка в разных мастерских Петербурга), Мордвинова (на чьей квартире станок был собран), Достоевского (в числе других участников спешневской семерки посвященного в суть дела), тем не менее вопреки утверждению Майкова не была уничтожена. Ее следы обнаружились гораздо раньше, чем было написано (1885) и тем более впервые опубликовано (1922) знаменитое письмо Майкова к Висковатову[248] с сенсационными подробностями по делу спешневца Достоевского.
Выкраденная семьей сенатора Мордвинова из комнаты его сына, участника дуровского и спешневского кружков, типография в течение двадцати лет пребывала в нетях, чтобы всплыть по воле одного из кружковцев при особых обстоятельствах. Собранный в 1849 году, но ни разу так и не использованный ручной станок, повинуясь художественной фантазии Достоевского, стал в его романе средством шантажа и поводом к политическому убийству.
«Вам… поручили принять здесь, в России, — объяснял Ставрогин Шатову, предупреждая о грозящей опасности, — от кого‑то какую‑то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится… Вы же, в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после этого отпустят совсем, взялись… Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: эти господа вовсе не намерены с вами расстаться».
И Шатову, дерзнувшему порвать с «этими господами», предстояло «сдавать станок и буквы и старые бумажки». «Господам» же надлежало «завлечь Шатова, для сдачи находившейся у него тайной типографии, в то уединенное место, где она закопана», чтобы там уже «распорядиться». Юноша Эркель, явившись к Шатову, чтобы его «завлечь», объявлял ему: «У вас станок, вам не принадлежащий и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами». В контексте давно прошедшей истории слова фанатичного кружковца звучали как тяжелая улика против подсудимого Достоевского.
Уже не только уликой, а фактическим признанием в соучастии при сборке станка на квартире Мордвинова мог служить и другой фрагмент диалога Шатова и Эркеля.
«— Как же вы возьмете (станок. — Л. С.)? Ведь это нельзя зараз взять в руки и унести.
— Да и не нужно будет. Вы только укажете место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место, самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому‑нибудь место?
Шатов посмотрел на него.
— Вы‑то, вы‑то, такой мальчишка, — такой глупенький мальчишка, — вы тоже туда влезли с головой, как баран? Э, да им и надо этакого соку!»
За всех, кому удалось тогда избежать наказания, или, обманув следствие, уменьшить его размеры, должен был теперь расплачиваться Шатов. В тот самый момент, когда он, завлеченный в «уединенное место», указал, где копать, и воскликнул: «Ну, где же у вас тут заступ и нет ли еще другого фонаря?» — трое сбили его с ног и придавили к земле; за минуту до акции между ее исполнителями действительно решался вопрос о судьбе станка.
«— Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии?..
— Ну разумеется, не терять же вещи… Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто; потом сами выроем…»
Почему‑то, однако, заговорщики, заметая следы, так и не вырыли ценную «вещь»; давая откровеннейшие показания следствию, они даже не упомянули о типографском станке — будто его никогда и не было.
Собственно говоря, здесь его и в самом деле не было; существовал фантом, тайна, когда‑то, видимо, немало измучившая Достоевского, скрывшего от судей, вслед за другими спешневцами, опаснейший сюжет. Теперь, за давностью лет, тайна была уже не столь опасна; к тому же художественную улику вряд ли можно было бы законным путем использовать против автора или его бывших однодельцев. С чистой совестью он мог бы теперь воскликнуть вслед за членом пятерки Виргинским, почти обрадовавшимся при аресте: «С сердца свалилось».
…О. Ф. Миллер писал об удивительном благодушии, с которым Достоевский, заключенный в крепость, отнесся к своему положению. «По собственным словам Ф. М., он сошел бы с ума, если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь. Явилась идея, перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»[249].
Если под спасительной идеей подразумевалось покаянное отрешение от тяжелых ошибок молодости, ему нужно было научиться не сожалеть о прошлом, а художественно преобразить его. Лишь здесь, в беспредельности романного вымысла, где он был хозяином положения и господином разговора, являлся шанс не только уплатить, но и получить по счетам.
«Поймите же, — кричал Петр Степанович Николаю Всеволодовичу, — что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы!»
У Достоевского имелись и собственные резоны для подобных заявлений. Его счет Ставрогину был также слишком велик — намного больше, чем того стоили одни лишь политические «подвиги» Николая Всеволодовича и его прототипа.
Глава пятая. Соус из зайца
I
Немногословный мемуар — рассказ Спешнева, записанный А. Г. Достоевской, содержал одну поразительную — в «психологическом смысле» — подробность. «На Федора Михайловича, — сообщил ей Спешнев, — Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой»[250].
Ничего особенно нового эта подробность не содержала — об отношении Достоевского к Петрашевскому можно было судить по другим мемуарным источникам и по собственным высказываниям писателя — хотя бы в письме к брату Михаилу из Омска («Петрашевский по — прежнему без здравого смысла»).
Но о кощунственном богоотрицании, так возмущавшем Достоевского отнюдь не только в Петрашевском, высказывал мнение не кто иной, как Спешнев, воинствующий атеист номер один, в чьем судебном приговоре перечень провинностей начинался с богохуления.
Психологическое потрясение, которое пережил Достоевский 22 декабря 1849.года на Семеновском плацу, должно было навсегда сохранить в его памяти не только обряд приготовления к казни, но и сцены прощания с товарищами. «Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними», — писал он брату вечером того же дня, когда все было уже позади.
Однако за считанные минуты до начала казни Достоевский, если верить другому воспоминателю из числа приговоренных, «успел» не только обнять стоявших рядом Дурова и Плещеева. Он — ввиду экстраординарности события — решился переговорить со Спешневым.
По — видимому, это случилось уже тогда, когда приговор полевого уголовного суда был прочитан, осужденным была выдана их предсмертная одежда — саваны и колпаки — и священник с Евангелием и крестом обратился к ним со словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться… Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди…»[251] В тот самый момент, когда К. И. Тимковский, единственный из всех пожелавший исповедаться, обратился к священнику, Достоевский подошел к Спешневу.