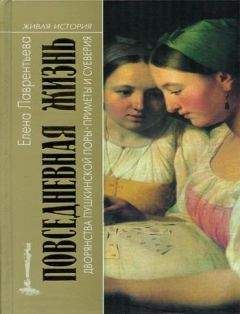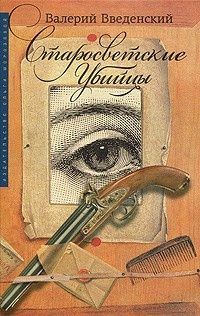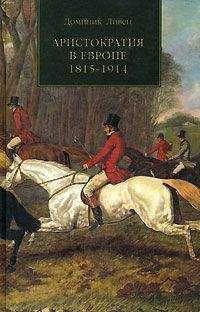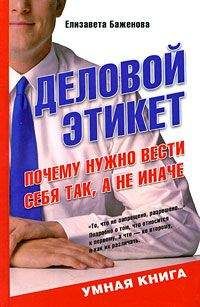«Перчатки непременно следует одевать до выхода из дома, — как одевать их, так и завязывать ленты шляпы на улице неприлично.
Входя в гостиную с визитом, они должны быть непременно одеты на обеих руках и снимать их во время посещения нельзя»{50}.
«Мужчины входят с шляпою в левой руке; перчатки должны быть безукоризненной свежести и плотно застегнуты на все пуговицы…
Если перчатка лопнула, не снимайте ее и не смущайтесь нисколько такой безделицей, но, в предупреждение неприятности носить весь вечер рваную перчатку, советуем брать в карман запасную пару свежих перчаток, заранее растянутых на машинке. Вы их наденете, конечно, где-нибудь в отдаленной комнате, без свидетелей»{51}.
«Неизящно одевать утром светлые лайковые перчатки, а еще хуже донашивать запачканные накануне на вечере или на балу»{52}.
«Не полагается снимать перчатки гостям, когда их обносят прохладительными напитками»{53}.
«Люди, принадлежащие к хорошему обществу, не выходят из дома без перчаток.
Во время визитов перчатки не снимаются или, если их почему-нибудь снимут, то тотчас же надевают снова.
Ходить дома в перчатках чересчур изысканно и похоже на аффектацию; но в приемные дни, вечером, это необходимо и очень принято днем.
Когда обедают в гостях, перчатки снимают, уже севши за стол, прежде чем развернуть салфетку, и кладут их в карман…
Не надо надевать перчаток тотчас после десерта, потому это будет похоже на понуждение хозяйке дома вставать из-за стола. Но их надевают снова, пришедши в гостиную…
За чаем и ужином остаются в перчатках. То же самое предписывается для холодных закусок и великих столов, за которые садятся в шляпах.
Ни под каким предлогом танцевать без перчаток не допускается, даже без одной перчатки, — как мужчинам, так и дамам. Первые имеют, впрочем, более льгот, чем мы; они могут иногда снять перчатку с левой руки, но только во время визитов или для курения; для танцев же никогда»{54}.
А. В. Богданович 23 января 1890 года запишет в дневнике: «Государь на последнем балу остался недоволен некоторыми офицерами, которые после ужина начали танцевать без перчаток»{55}.
Правила хорошего тона отнюдь не сводились к правилам ношения перчаток. Отдавая должное хорошим манерам и «салонным талантам», светское общество предъявляло к молодым людям более высокие требования.
Я. И. Булгаков в письмах к сыновьям неустанно дает советы, как быть приятным в обществе, и в то же время говорит о важности образования, об умении преодолевать трудности. «Поздравляю с аглинским учителем, — пишет он Константину. — Не теряй время: все выученное везде во всяком месте и во всяком случае пригодится. Ежели бы сделалось какое несчастие (которое случается и с королями, как с Лудовиком XVI), то ты в себе самом найдешь ресурс и пропитание или языками, или музыкою, или рисованием; а ежели ничего сего не будет — пропал»{56}.
О самом старике Булгакове современник писал: «Трудолюбие — отличительное его качество. Говорят, что он не может ни минуты оставаться праздным: не пишет, так читает»{57}. Примечательны слова блестящего флигель-адъютанта Александра I: «Я слышал, что мои завистники основывают торжество свое на том, что по возвращении моем в Петербург я не буду более занимать места, подобного тому какое теперь, но глупцы сии не знают, что у меня есть друг, есть книги, воспоминания и перо, которым я умею владеть»{58}. Действительно, когда бывший любимец Александра I генерал А. И. Михайловский-Данилевский «остался не у дел», он «провел три года в совершенном уединении» в нижегородском имении. Там он написал свои мемуары о заграничных походах, которые получили признание современников.
С. П. Трубецкой в «Замечаниях на записки декабриста В. И. Штейнгеля» сообщает интересный факт из биографии М. Лунина: «Он был в молодости своей большим дуэлистом и был отставлен из кавалергардов за дуэль. Отец рассердился на него и прекратил ему содержание. Лунин уехал в Париж и там жил некоторое время, давая уроки на фортепьяно»{59}.
Обучение ремеслам также входило в программу воспитания молодого дворянина. Д. Завалишин писал в своих воспоминаниях: «Уже во время нашего воспитания были очень в ходу идеи о необходимости каждому образованному человеку знать какое-нибудь ремесло или мастерство. Впоследствии идеи эти усилились еще и по политическим причинам. Образованные люди, стремившиеся к преобразованию государства, сознавая, что труд есть исключительное основание благосостояния массы, обязаны были личным примером доказать свое уважение к труду и изучать ремесла не для того только, чтобы иметь себе, как говорится, обеспечение на случай превратности судьбы, но еще более для того, чтобы возвысить в глазах народа значение труда и облагородить его, доказать, что он не только легко совмещается с высшим образованием, но что еще одно в другом может находить поддержку и почерпать силу. Все эти идеи дошли в каземате до окончательного развития и получили полное приложение… Я и Борисов-старший были переплетчиками и занимались картонажем; Оболенский был закройщиком; портных и сапожников было очень много; Артамон Муравьев и Арбузов были токарями; последний был сверх того и слесарем и превосходно закаливал сталь; Громницкий был столяром; Николай Бестужев часовых дел мастером, Горбачевский занимался стрижкою волос, Швейковский и Александр Крюков были отличные повара; другие были плотниками, малярами, кондитерами и пр. и пр. Фаленберг сам сделал отличный планшет для топографической съемки и пр.»{60}.
«Решительно все делили между собою: и горе и копейку. Дабы не тратить денег даром или на неспособных портных, то некоторые из числа товарищей сами кроили и шили платья. Отличными закройщиками и портными были П. С. Бобрищев-Пушкин, Оболенский, Мозган, Арбузов. Щегольские фуражки и башмаки шили Бестужевы и Фаленберг; они трудами своими сберегали деньги, коими можно было помогать другим нуждающимся вне нашего острога»{61}. «Товарищ наш А. В. Поджио первый возрастил в ограде нашего острога огурцы на простых грядках, а арбузы, дыни, спаржу и цветную капусту и кольраби — в парниках, прислоненных к южной стене острога. Жители с тех пор с удовольствием стали сажать огурцы и употреблять их в пищу»{62}. Н. А. Бестужев «превосходно шил башмаки, делал серьги, кольца и пр., как лучший ювелир, делал ружья… Он также превосходно рисовал миниатюрные портреты, которые нельзя было отличить от работы знаменитого Изабе[75]»{63}.
Самообладание — одно из отличительных качеств светского молодого человека, которого воспитывали в духе «презрения к боли и опасности». Французский литератор Ф. Ансело имел возможность убедиться в «необыкновенном самообладании» великого князя Александра Николаевича. «Представители обоих французских посольств отправились осматривать Царское Село и собирались пересечь пруд на золоченых барках, которые во множестве покрывают его воды в летнее время. Великий князь, управляя собственным челноком, стоял у руля и предложил нескольким иностранцам присоединиться к нему. Один из приглашенных сделал неловкое движение и качнул лодку так сильно, что кормчий пошатнулся, руль ударил его в бок и лицо его исказилось от боли. Все бросились к нему, но воспитатель (В. А. Жуковский. — Е.Л.) великого князя воскликнул: «Ничего страшного, русские умеют переносить боль!» Юноша отвечал ему улыбкой, ловко развернул челнок и дал знак к отплытию. Во все время прогулки прекрасное лицо наследника ничем не выдавало переносимого им страдания»{64}.
«Необыкновенным самообладанием» цесаревича, его «высокими душевными качествами» восхищался и сам император, о чем свидетельствует рассказ Е. А. Егорова: «У покойного князя Юсупова, в его великолепном дворце на Мойке, был бал. Бал этот почтил своим присутствием государь Николай Павлович со всей царской фамилией. Оставляя бал, государь спускался по лестнице, где тотчас ему была подана его шуба. Хватились шубы наследника цесаревича Александра Николаевича — в то время еще очень молодого человека, — но, к ужасу всех, ее нигде нельзя было найти; поиски были тщетны — шуба оказалась уворованной! В таком крайнем положении, и чтобы не задерживать севшего уже в сани и поджидавшего государя, на цесаревича накинули первую попавшуюся шинель. Увидя на цесаревиче эту шинель, Николай Павлович сильно разгневался на него и всю дорогу до Зимнего дворца журил его за беспечность и небрежение к своему здоровью, а по приезде во дворец приказал, не снимая шинели, отправиться за ним к императрице, которой, указывая на наследника, сказал: