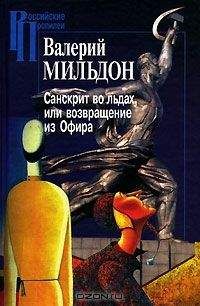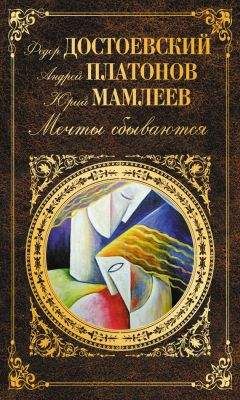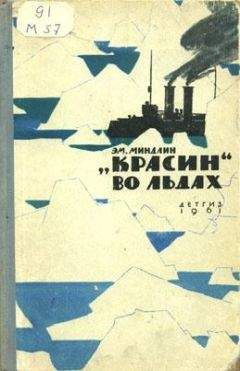В чем причина подобных суждений, авторы которых не осознавали последствии своей мысли, будь та реализована? Полагаю (оставив прочие мотивы в стороне), из‑за искажения роли разума в делах человека. Такое искажение возможно там, где разум не имел практического применения, варился в себе, не соизмеряясь с практикой своих рецептов; где поэтому он не знал своих границ и полагал собственные силы безмерными. В России такая фантастическая разумность давала полярные типы: либо романтизм, так сказать, наиромантичнейший (таковы чевенгурские коммунисты), либо прагматизм наипрагматичнейший (таков Шмаков из «Города Градова», думающий над тем, как отменить ночь и продлить рабочее время).
Молодой Платонов страстно хочет переделать жизнь, исходя из своих представлений, и целиком берет сторону советской власти.
Что его разум может ошибаться (хотя бы как частный случай общих ошибок чистого и практического разума); что во избежание ложных шагов разуму необходима критика — это не идет на ум. Русская история не давала разуму места деятельности (зато времени — сколько угодно, вечность), он жил или в пустоте, или в шуме своих доводов, не соотносимых с окружающим (как писал В. О. Ключевский; см. выше).
В «Чевенгуре» изображено положение, когда «невзрачные люди», не имевшие до тех пор дела со своим разумом не только исторически, но и по личным свойствам, вдруг смогли устроить жизнь «разумно». При этом почти все описаны автором с неоспоримой симпатией, как взыскующие (именно такое слово: действующим лицам романа дорога идея коммунизма, они видят в ней исполнение вековечных чаяний, а не потому, что открывает доступ к земным благам) тысячелетнего царства. Подобное толкование исключает оценку романа как сатирического, вроде «Мы» Замятина, «Ленинграда» Козырева. У Платонова нет ни насмешки, ни сатиры, как бы ни подталкивали к такой оценки некоторые страницы либо выражения, например: «Скоро конец всему наступит? — Социализм, что ли?» (с. 52). «Коммунизм — дело нешуточное, он же светопреставление!» (с. 240).
Как раз потому, что автор намеревался дать объективную картину, он мог не заметить сатиры приведенных примеров или, заметив, оставить именно в интересах объективности. Ибо в книге все прежние идеи Платонова, дорогие мысли, правда, на сей раз переданные персонажам. Может быть, это довод в пользу предположения, что писатель и на себя начал смотреть со стороны, — необходимое условие столь же необходимой критики чистого и практического разума.
Я уже сравнивал «Чевенгур» с «Мертвыми душами» Гоголя, который, по признанию в «Выбранных местах из переписки с друзьями», хотел показать всю Россию с одного боку. Платонов, насколько позволяет судить роман, тоже намеревался показать Россию, и его книгу нельзя считать утопией по замыслу, вроде книг Уэллса или Богданова. Но и Гоголь писал вовсе не утопию, хотя, как знать, не был ли утопичен весь план «Мертвых душ», включая 2–й и 3–й тома, где Чичиков должен стать праведником, образцом для русского человека. Известно, 2–й и 3–й тома не появились, и, вероятно, одна из причин в том, что Гоголь, при всем редчайшем метафоризме его дара, не хотел утопии, не хотел выдумывать.
Платонов, в отличие от Гоголя, выдумывал — таков, к примеру, полностью выдуманный (и оттого неудавшийся) рассказ «По небу полуночи». Зато где не выдумывал, получалось хорошо: «Река Поту — дань», «Июльская гроза». «Чевенгур» тоже невыдуманная книга, не утопия. Коммунистической грезой писатель дорожил до конца дней, он был идеальным советским автором: не кормился от идеи коммунизма, потому что безоговорочно верил — возможная причина его опалы: не из‑за якобы сатирического изображения коммунизма, а из‑за слишком ревностного, серьезного, неугодного тем, кто брал эту идею как инструмент, а не цель.
Как раз потому, что Платонов дорожил коммунизмом, он не хотел выдумывать, важнее показать, откуда, из какой несусветной дикости, темноты, как пробивается коммунистический идеал. Всякое придумывание, сатира, вторые смыслы могут лишь повредить. Показать все как оно есть — тогда каждый увидит, что тысячелетнее царство не может не наступить. Это‑то намерение, если оно реконструировано мной без ошибок, не позволяет определять роман «сатирой».
Изображение тех, кем овладела коммунистическая идея того вида, какой она приняла в головах неграмотных людей, — свидетельствует о катастрофичности ее осуществления. И это, подчеркиваю снова, вопреки замыслу автора, намеревавшегося запечатлеть становление коммунизма в России.
В этом причина «идеального» изображения писателем продразверстки, которая не была ошибкой режима, но только шагом в реализации одного из постулатов теории («Я от Маркса отступаться не могу, товарищ Чепурный<…>Раз у него напечатано, то нам надо идти теоретически буквально», с. 223), но способом сохранить большевистскую власть, используя коммунистическую доктрину.
Однако Платонов, озаренный идеей, везде видит ее отсветы, а потому и продразверстку, и ее отмену изображает одинаково эпически, как эпически описан расстрел чевенгурских «буржуев». Эпичность я объясняю пафосом автора: он объективен, чтобы выразить дорогую ему идею. «Чевенгур», по замыслу автора, должен рассказать о всепобеждающей силе коммунизма,
Вышло совсем не то, повторилась в некотором смысле ситуация с «Мертвыми душами». Уж какой монархист был Гоголь, как не однажды и вполне от чистого сердца славил и царя, и Россию, и русский народ, лучший, по его убеждению, среди всех европейских народов. Это он и собирался показать во 2–м и 3–м томах «Мертвых душ»: Чичиков становится таким праведником, каким может сделаться только русский человек.
Получилось совсем не по его. Противоречие между «волей» текста и волей автора, художественного изображения и личных взглядов оказалось разительным. С Платоновым история повторилась. Задумана «прокоммунистическая» вещь, вышло — вследствие объективности ради торжества идеи — нечто противоположное.
— Число поставьте, — попросил командированный из Почепа.<…>Но Чепурный не знал сегодняшнего месяца и числа… знал только, что идет лето и пятый день коммунизма, и написал: «Лето 5 ком.» (с. 245).
Ему неинтересно движение жизни вокруг, для него правда только в коммунизме, и поэтому счет времени идет с этой поры: лишь сейчас люди начинают жить, значит, начинается история. Это и есть упоминавшиеся психо- и гносеология «отцеубийства»: истинно лишь сейчас, словно прошлого не было, грядущего не будет. «Царству рабочих и крестьян нет конца» — такую надпись сделал известный художник С. Чехонин по краю одного из своих декоративных блюд (Симферопольский художественный музей). «Нет конца» означает: нынешнее объявлено вечным (спустя полтора десятилетия после блюда Чехонина появилось еще одно «хилиастическое» общество — «тысячелетний рейх»). Это и зовется «отцеубийством» и его разновидностью — «сиротством».
В «Чевенгуре» мотив сиротства, безотцовщины — один из постоянных, некий знак этой книги. Вот авторское описание «прочих» — тех, кого Прокофий Иванов и Пашка Пиюся привели в Чевенгур для пользования коммунизмом: «Ни один прочий, ставший мальчиком, не нашел своего отца (таковы едва ли не все действующие лица — или не имеют или не вспоминают отцов, словно их не было. — В. М.) и помощника, и если мать его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и живущего; поэтому отец превращен во врага и ненавистника матери<…>
И жизнь прочих была безотцовщиной — она продолжалась на пустой земле без того первого товарища, который вывел бы их за руку к людям…» (с. 254).
«Безотцовщина», «сиротство» — один из национальных архетипов, художественно воссозданный Платоновым, удовлетворительно разъясняющий и почему «сироты» усвоили коммунизм, и почему он усвоен в «сиротском» варианте, следствием чего явилось истребление всех «не — сирот».
Какой же человеческий тип вырастет из сироты? «Почти каждый из тех, чье пришествие приветствовала чевенгурская большевистская организация, сделал из себя человека личными силами… — это были сплошь самодельные люди» (с. 255).
Если искать роману другой подзаголовок вместо существующего, я взял бы «самодельные люди». В этой метафоре многое соединилось: и «отцеубийство — сиротство»; и убеждение молодого автора, будто пол — буржуазный пережиток, от которого новым людям нужно отказаться (и тогда, добавлю, нет иного средства, как родиться от самого себя, буквально реализовав метафору «самодельные люди»); наконец, несформулированная вера, вытекающая из «отцеубийства»: мир начинается и заканчивается тобой, поэтому спеши, не задумываясь, расчистить место себе, своей идее; сопротивляться будут лишь враги, а их нечего жалеть.
«Безотцовщине — сиротству» весь мир враждебен (психология, угаданная Достоевским в Смердякове), ибо существует независимо от сироты, хочет он или нет, и этот мир можно лишь ненавидеть (одновременно — бояться, и ненависть из боязни). В большинстве случаев «самодельный» — эвфемизм другой внутренней ситуации: не ты себя делаешь (тогда был бы творцом, равносильным божеству), а тебя вне твоих личных расчетов «делает» внешняя среда, из‑за чего, кстати, возникает ложная мысль (Базаров, «Отцы и дети»): измените среду, изменятся люди.