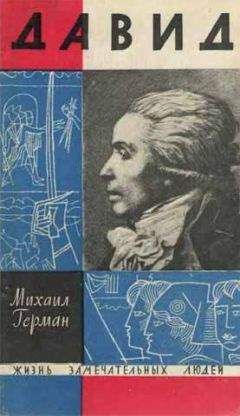Люксембургский сад, этот «зеленый рай детской любви (amours enfantines)», как называл его Бодлер, писали сравнительно редко, а импрессионисты, кажется, и вообще не писали его. Меж тем это один из самых «парижских» уголков города, с очаровательным смешением стилей, величавой аллеей, ведущей ко дворцу, статуями, лестницами, вазами, округлыми куполами деревьев, роскошными клумбами и пышным розарием.
Картина Сарджента — удивительный пример высокоэстетизированной банальности, которая, кажется, удавалась прежде лишь Ренуару. Во всяком случае, совершенно «мопассановская» пара, прогуливающаяся на первом плане и уже подходящая к левому краю полотна, — композиционная смелость, достойная Дега («Абсент» и, скорее всего, «Площадь Согласия» написаны незадолго до рассматриваемой картины и, вероятно, были известны Сардженту).
При всей первоначальной цельности впечатления картина несколько эклектична по стилистике и манере письма, но это кажется скорее продуманным ходом, чем непоследовательностью автора. Фигурки первого плана написаны с намеренной изящной небрежностью, достойной Гиса, и напоминают беглый, но характерный этюд: мазки положены так, чтобы подчеркнуть не столько форму, сколько движение и характер, театрально-изящный «всплеск» алого веера дамы на фоне черного сюртука ее спутника, который сам по себе являет великолепный кусок живописи. Благодаря рафинированно-пестрому пятну справа, где также преобладают черные и алые пятна, и алым же цветам в вазе возникает некий напряженный, отмеченный красными акцентами треугольник, создающий резко сдвинутый влево смысловой и колористический узел картины. Этот непосредственно и даже этюдно написанный фрагмент — вполне в русле импрессионистической стилистики и живописной техники. И по отношению к нему все, что справа, воспринимается неким затухающим, тающим эхом. Это уже отчасти иное художественное пространство, где ощущение замершего, «притаившегося» времени растворяется в жемчужном, подчеркнуто уравновешенном покое, заставляющем вспомнить не столько Ренуара или Моне, сколько Уистлера.
Излюбленные именно Уистлером отливающие мягкожемчужными оттенками плоскости: более теплыми — гравий и песок широкой аллеи, более прохладными, с легкой голубизной — вечереющее небо, подернутое дымкой, сквозь которую мерещится млечно-золотистый диск низкого солнца. Темные, мягко и упруго прорисованные купы деревьев за балюстрадой образуют торжественный и печальный ритм, на их фоне легко и театрально белеет светлый камень перил, балясин и ваз, бронзовая фигурка на высокой колонне ловит последний солнечный луч в то время, когда сад погружается в ранние сумерки, которые англичане называют поэтичным словом «twilight» [306]. Необычно огромное для импрессионистической картины — больше, чем в половину холста, — пространство, которое занимает земля, оставляя небу едва ли его треть, производит странное впечатление: словно бы художник смотрит на открывающийся перед ним пейзаж, опустив голову. Элегическая печаль, своего рода «эстетическое гурманство», легкий налет салонности — все это растворяется в благородстве безупречной живописи, с ее гармонией колорита, валёров и тонов. Генри Джеймс, живший в Лондоне известнейший американский писатель, чья весьма изысканная проза была настояна на французской литературе («À la Maupassant — это должно стать моим постоянным девизом», — говорил он), в своей рубрике «Parisian Sketches (Парижские наброски)» для «New York Herald Tribune» писал словно бы об этой картине Сарджента: «Длинные туманные аллеи и перспективы (vistas [307]), сплошь покрытые какими-то коричневато-фиолетовыми растениями, которые с радостью воспроизвел бы художник, но которые нищая проза может лишь выдумать и обозначить [словами]».
И все же этот утонченнейший и такой европейский художник, живописец, почти не живший в США, странным и даже таинственным образом сумел подчинить незаурядный свой талант именно тем весьма своеобразным эстетическим требованиям, которые еще только зрели в сознании американского upper-middle class. Можно было бы сказать и иначе. Эти требования были художником спрогнозированы и отчасти даже реализованы, подобно тому как Ван Дейк создал визуальный образ английского аристократа эпохи Карла I, ставший эталонным, по которому сами модели потом учились рыцарственности и патрицианству.
Это было совершенно невозможно для подлинного импрессионизма. Госпоже Шарпантье нельзя было подражать, глядя на ее портрет кисти Огюста Ренуара: там царствовала живопись, а не блеск светской львицы, не жест и даже не пленительный взгляд. Искусство импрессионистов куда драгоценнее их сюжетов.
А Сарджент предугадывает эстетический эпос молодой, по-своему блистательной светской американской жизни, ее персонажей, среды обитания, ее суетной, великолепной, торопливой роскоши: «Тут не было ни облагораживающей простоты, ни изящества, ни целесообразности» (Теодор Драйзер).
Эстетизировать саму банальность, растворить роскошь в материале искусства — это, как уже говорилось, в высокой степени прерогатива французской культуры вообще и импрессионизма в частности. Казалось бы, ничего от вкусов и стилистики живописи нуворишей не определяет художественной манеры Сарджента, но он сам ищет — и находит! — в ней пышную, энергичную, вызывающую привлекательность, салонное великолепие, не лишенное, впрочем, несомненного обаяния. Он тоже эстетизирует роскошь, но становится ее данником, он и само искусство делает частью этой роскоши. В конце 1910-х годов он уверял, что ненавидит писать портреты, но всю жизнь, и до и после этих высказываний, не переставал принимать заказы, став чрезвычайно модным по обе стороны Атлантики портретистом. Его светские портреты сначала вызывали во Франции сдержанную, порой неприязненную реакцию. Сейчас уже совершенно непонятно, почему столь знаменитый ныне «Портрет госпожи Готро» (1883–1884, Нью-Йорк, Метрополитен-музей, эскиз — Лондон, Галерея Тейт) был встречен скандалом. Возможно, его спровоцировала не только интерпретация модели (дама изображена с чрезвычайно смелым даже для той поры декольте, в откровенно вызывающей, манерной позе, и ее мать повсюду выражала свое возмущение неприличием платья и искривленной фигурой дочери и даже требовала, чтобы художник снял картину с экспозиции), но и репутация героини портрета. Он был написан вскоре после весьма эффектного портрета доктора Поцци, человека, известного в Париже своими любовными похождениями, в частности связью с одной из первых красавиц Третьей республики женой банкира Готро — Жюдит.
Поразительно, что даже самое авторитетное искусствознание XX века [308] с поразительной и, видимо, инерционной настойчивостью продолжало утверждать, что поэтику этих портретов определяют влияния Мане и Веласкеса, восхитившего Сарджента во время его недавней поездки в Испанию. «Портрет доктора Поцци» (1881, Лос-Анджелес, Фонд Хаммера), возможно, и отмечен уроками Веласкеса и Мане, однако триумфальная салонная грандиозность (холст, как и в портрете госпожи Готро, — более двух метров высотой, фигура больше натуры), алый халат, в который герой задрапирован, как в кардинальскую мантию, яркость хорошо сгармонированных, но все же театрально-помпезных цветов заставляют вспомнить не столько живопись великих мастеров, сколько героев бульварных романов. Эта вещь — при всем таланте художника — в