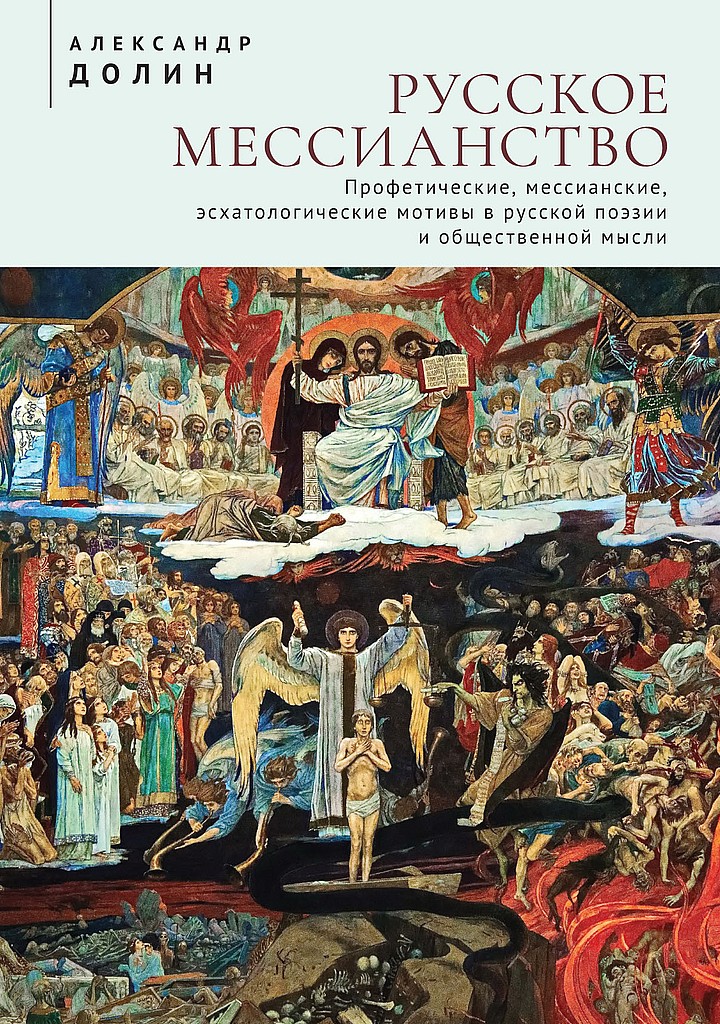русского миссионизма (в контексте нашей работы определим его как профетизм) с классическим государственным славянофильством, Бердяев подчеркивает исключительность этого направления в русской культуре, возводя его истоки к творчеству Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева, Д. Мережковского. При этом величие и благородство идей пламенных богоискателей сочетаются либо с «неопределенностью, почти неопределимостью» задач, либо с полным отсутствием практических рекомендаций по их осуществлению, либо с ошибочностью и утопичностью предлагаемых методов (противоречие, остающееся и поныне родовой чертой российской общественной мысли). Добавим, что богоискателями и носителями «миссионизма» в известном смысле можно считать и Чаадаева, и Хомякова, и Леонтьева, хотя в их сочинениях значительно меньше выражен мистический элемент.
Бердяев всерьез рассматривает уже выдвигавшуюся до него концепцию двух начал в истории русского самосознания, создающих как бы два полюса духовной и интеллектуальной жизни. Концепция эта, родившаяся в тот период, когда восточные философские учения были еще почти недоступны западным мыслителям, поражает очевидным сходством с теорией взаимодействия светлого и темного начал, полюсов Инь и Ян в дальневосточной схеме функционирования природы и общества: «Только дневное приобрело у нас официальное право на существование, признано прогрессивным. В этой дневной истории мало оригинального, вся она следует шаблонным образцам, хотя делает нужное, полезное дело. Наше богоискание свершалось как бы в ночи, при свете звездном, а не солнечном. Ночная — вся поэзия Тютчева, все творчество Достоевского. Ночная — вся русская метафизика и мистика. <…> Русский миссионизм, заложенный в ночном, трансцендентном сознании лучших русских людей, колеблется в своей основе от действительности сегодняшнего дня» ( ‹29>, с. 40).
Сам Бердяев, мыслитель профетического и эсхатологического склада, конечно, тоже ощущал себя носителем «миссионизма», призванным способствовать вхождению России в сообщество европейских народов, осуществлению ее смутно прозреваемой «миссии». При этом философ в «Судьбе России» особо подчеркивает аполитичность и «безгосударственность», то есть политический анархизм как типическую особенность русского народа и его духовных пастырей — от Бакунина и Кропоткина до славянофилов, Толстого и Достоевского. В жажде «божественной свободы» отрицаются общественные правила и установления. Действительно, вплоть до Октября 1917 г. основные политические и идеологические движения в России, подкрепленные мощным литературным и культурным фундаментом, добивались радикального переустройства системы, то есть разрушения основ существующей государственности, а не какого-либо ее улучшения, совершенствования.
Профетическая роль литераторов и мыслителей в России связана, должно быть, именно с тем, что в самосознании народа носители государственной власти вне зависимости от ранга и положения ни в коей мере на роль духовных пастырей и наставников не годились. Образ притеснителей и тиранов настолько прочно закрепился за самодержцами российскими и царедворцами со времен Ивана Грозного, что даже такие просвещенные и победносные правители, как Александр I, не могли рассчитывать на признание просвещенных кругов общества и народную любовь. К тому же царская власть всегда была слишком далека и недоступна. Авторитет церкви был велик, но церковь, подчиненная со времен Петра I государству, будучи носителем строгих общественных норм и моральных заповедей, не могла полностью утолить печали мятежной русской души. Народ всегда нуждался в «боговдохновенных» пророках, получающих высшую истину из первых рук, от самого Всевышнего, и не страшащихся противопоставить свою надмирную власть тайного знания власти мирской. Отсюда невероятное обилие мистических экстремистских сект с радениями и самоистязанием, отсюда всенародный пиетет по отношению к юродивым, блаженным и прочим «нищим духом» вплоть до банального пьяницы. Естественно, почетное место в этом ряду должен был занять писатель, поэт — вития милостью Божьей.
В то же время неумение и нежелание рационально обустроить свою государственность всегда оборачивалась для русского народа пассивным и покорным принятием любых видов государственной тирании, которой «пророки»-одиночки волей-неволей должны были противостоять. Как отмечает Бердяев, «русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина» ( ‹33>, с. 275). Между тем государственный аппарат и армия функционируют как бы сами по себе, используя народные массы в качестве покорного орудия. Между суровым властелином и покорным, долготерпеливым народом в России и стоит Пророк, провидящий истину, возглашающий ее городу и миру, пекущийся о высшем благе общества.
В свою очередь Василий Розанов отмечал двойственную природу российской действительности, одна сторона которой, естественно, проявлялась в легализованной и оформленной государственности. Другая же, скрытая от взоров — «„Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых мы не предвидим, начало безвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного» ( ‹162>, с. 47). Речь здесь идет о той же самой Святой Руси, с ее причудливым смешением православной и языческой обрядности, фанатической веры и кондовой косности, в которую Блок в 1918 г. предлагал «пальнуть пулей».
В глазах Розанова и ряда других религиозных мыслителей России именно эта сторона жизни народа представляла наибольший интерес как колыбель русской духовности, в которой из веры в счастливое прошлое вызревала надежда на лучшее будущее. Мистическая, непредсказуемая Россия создавала питательную среду для напряженного поиска путей Спасения. Одним из таких путей (разумеется, иррреальным) виделся возврат к истокам, к былинному «золотому веку» Руси, к утраченному раю Беловодья и Китежа. Опрокинутый в прошлое миф о российской «счастливой Аркадии», основанный на архетипе Святой Руси, в значительной степени подпитывал учение славянофилов и безусловно послужил материалом для создания в XX в. народного мифа о российском коммунизме как царстве свободы разума и справедливости — мифа, который прижился во многих странах Востока и Запада.
Критика позитивистской философии Запада, идей буржуазного технического прогресса, ограниченной в своих устремлениях духовности стала общим местом для русских философов — от И. Киреевского и А. Хомякова до К. Леонтьева, Вл. Соловьева, Н. Федорова, Г. Федотова, И. Ильина, С. Булгакова. В спорах об «особом пути» развития России и российской общественной мысли они обращались к православию, предлагая те или иные варианты философии истории. Объединяет их учения вера в мессианское предназначение России и упорные поиски пути к преображению мира на основах высшего нравственного императива. Хотя ни один из предложенных вариантов спасения человечества, кроме людоедского ленинского «коммунизма», так и не был реализован, это не значит, что все проекты были заведомо невыполнимы. В конце концов именно Поиск Пути, а не его практическое воплощение, и есть задача Пророка в своем отечестве.
В то же время непредсказуемая «душа России» всегда сочетала в себе два начала — по определению Бердяева, «ангельскую святость и зверскую низость», а все движения русского духа представляли собою колебания между двумя этими началами. Интеллигенция, разумеется, тяготела к святости, но