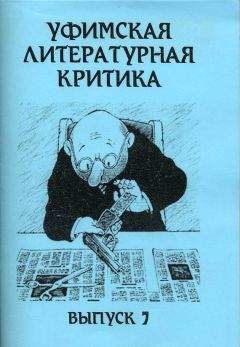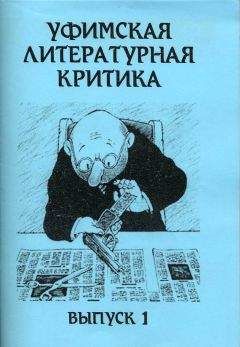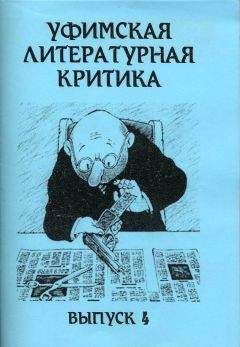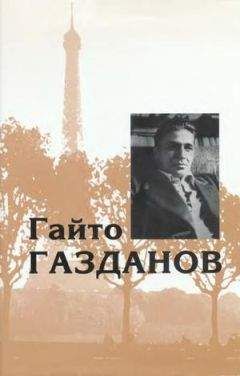совершенно буржуазные свойства, которые не были предусмотрены в феодальной по происхождению социальной структуре. Даже если в отдельных ситуациях они бы и проявились, то как частные свойства характера, а не коренные свойства этих героев. Настоящие мушкетеры при разговоре с королем или кардиналом, или тем более с англичанами стушевались бы, не знали бы, что сказать, и выступили бы как орудия или как бунтари, – но не как люди, способные заранее продумать деловую стратегию и провести нужные переговоры.
Не будем ограничиваться Дюма, вспомним «Войну и мир» Л. Н. Толстого – Наполеон и Кутузов в этом великом романе больше похожи на Штольца и Обломова, чем на своих исторических прототипов. Их капризы, их уже не вызывающая, как у денди той эпохи (хотя денди ни тот, ни другой не были), но расслабленная любовь к комфорту, их несколько нервический фатализм – это все свойства людей уже не начала, а середины XIX века. Таким образом, роман оказывается рассказом для современных людей о современных людях, способом прежде всего производства современности, а не проникновения в историю.
Строго говоря, романтизм вполне настаивал на таком прочтении романа как опыте непосредственного соприкосновения с современностью. Само слово «романтика» изобрел в 1800 году Новалис, образовавший слово по образцу названий наук, как «физика» или «математика». Есть физика, изучающая природу, а есть романтика, учащая жить человека как в романе, действовать так же решительно, как герои романа. Предпосылки к такому повороту в понимании роли искусства, включавшему в себя и переосмысление слов «гений» и «вкус», сложились как раз к этому времени: от богословского проекта пастора Фридриха Шлейермахера, последователи которого предлагали читать Библию как роман, понимая Всемирный потоп как подростковый кризис, а Вавилонскую башню – как юношеские амбиции, до демонического гения Наполеона, который и определил, что такое «гений» и «великий человек» для целых поколений.
Но важно, что исторический роман – не психологический роман, имеющий дело с формированием характера в том числе и читателя во время чтения, а особый взгляд современности на себя (это первый тезис Лукича) позволяющий читателю отчетливо ощутить, в чем он современен и что он должен делать в современности, в том числе обособляя себя от прошлого и по-новому его конструируя: достаточно вспомнить, что благодаря роману Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) сам собор и достроили, и сделали главной достопримечательностью Парижа, города, собирающего вокруг себя все энергии «современности», хотя до этого он воспринимался как нелепое средневековое сооружение.
Здесь мы подходим ко второму тезису Лукача, согласно которому упадок западного исторического романа начался после «весны народов» 1848 года. Это событие стало поворотным, потому что прервало зависимость романа от шоу, от наглядного действия с непосредственными эффектами. Сами революции, например бельгийская 1830 года, часто были спровоцированы шоу, оперными постановками, которые вдруг осознавались как программа борьбы за свободу. Это нужно учитывать, например, когда мы спорим об авторской позиции в «Тарасе Бульбе» Гоголя – эта повесть скорее тоже своеобразная опера, шоу, показывающая непосредственность исторического слома быстрее, чем выстраивающая нравственную позицию. А революция 1848 года была распределенной, она разразилась по всей Европе, ни один оперный театр не мог ее направлять. С тех пор исторический роман перестает выражать передовую буржуазную позицию и отступает в область частного развлечения.
Третий тезис Лукача тесно связан со вторым, и мы уже чуть не назвали его, вспомнив психологический роман – исторический роман продолжает вовсе не психологический роман Просвещения и романтизма, не Ричардсона и Руссо, не Мюссе, Констана и Шатобриана, а как раз упомянутый жанр оперы. В опере не создается, как в психологическом романе, вненаходимой ситуации, с которой мы можем оценивать героя. Наоборот, характеры и страсти героя становятся частью нашей современности, тем, что вызывает непосредственное возмущение или одобрение. После 1848 года, когда оказалось, что по всей Европе возмущаться и договариваться можно вне сценария, в силу спонтанного стечения событий, исторический роман утратил непосредственность, заняв место на полке жанров наряду с детективной или приключенческой литературой.
Среди современников Лукача были попытки возродить оперу в старом революционном смысле – достаточно указать на «зонги» Б. Брехта в его «эпическом театре». Это сатирические интермедии, напрямую обращенные к публике, которые не были частью драматического действия и тем самым требовали от зрителя непосредственного соучастия в современных общественных событиях. Брехт тоже, как и Лукач, долго жил в СССР, при этом на его театральную реформу чиновники смотрели косо, как и на его последователя в шестидесятые годы Юрия Любимова.
Вот пример зонга Брехта из «Кавказского мелового круга»:
Четыре генерала
Работают немало,
Идут-идут походом,
Походом на Иран.
Но первый заблудился,
Второй уже охрип,
А третий простудился,
Четвертый просто влип.
Перед нами сатирический монтаж, где высмеивание милитаризма основано на такой интерактивной игре: «А что случилось со следующим генералом?» Брехт дружил, переписывался и вместе отдыхал с Вальтером Беньямином, наиболее универсальным мыслителем из всех неомарксистов первого поколения, который разработал завершенную теорию медийности и интерактивности.
Гениальный Беньямин начинал как литературовед и театровед, исследователь барочной драмы. В своей диссертации он доказывал, что если в классицистской драме главенствует конфликт чувства и долга, то в барочной – власти и природы: власть пытается все контролировать, в том числе все органические и механические формы, но создает только иллюзию контроля, просматриваемость всего. Здесь Беньямин предвещает идею Фуко об институтах контроля и надзора как основе новоевропейского порядка. Но в этой работе Беньямин еще близок философии жизни, тогда распространенного учения, выраженного Ницше и Ибсеном, что природа отомстит за себя, жизнь вернется там, где контроль ума рано или поздно даст слабину, и природа отомстит власти за ее власть.
Так, в духе философии жизни, тогда рассуждали некоторые правые мыслители, например знаменитый культурфилософ Освальд Шпенглер (ученик Алоиза Риля, того самого, кто был «проводником» Ницше, сделавшим Ницше из писателя философом) в своей диссертации о Гераклите Эфесском объяснял темный афористический стиль этого мыслителя не как литературную позицию, а как невозможность установить контроль над словами, когда ты говоришь о самых больших принципах работы с природой. Согласно Шпенглеру, чем дальше Гераклит познавал природу, тем сильнее распадался его язык на недостаточные метафоры, и уже из распада языка Гераклит признавал власть природы над всеми нами. Для Шпенглера, как и для Гераклита, система власти и подчинения всегда будет установлена, если не так, то иначе, тогда как Беньямин был левым мыслителем, для которого любая система власти рано или поздно распадется.
Поэтому, согласно Беньямину, буржуазная, обывательская власть отличается