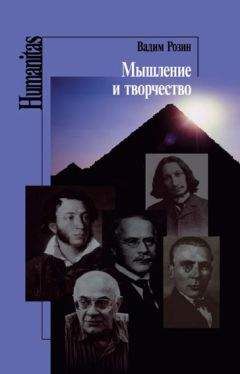Важным методологическим принципом для Канта являлся принцип соответствия, который, по сути, прямо следует из принятой Кантом установки на системное представление разума. Используя этот принцип, Кант устанавливает, например, соответствие отношения «рассудок – разум» с понятиями и правилами мышления: рассудку он ставит в соответствие правила и категории, а разуму – принципы и идеи (концепции). Кроме того, на основе того же принципа Кант строит таблицу категорий, структурно уподобляя ее таблице функций рассудка; аналогично, таблице категорий ставится в соответствие система трансцендентальных идей. Другой, не менее значимый методологический принцип, постоянно реализуемый Кантом, – переосмысление и перестройка основных традиционных философских понятий. Этот принцип является естественным следствием установки Канта на построение своей системы как строгой науки. Для науки всякое значимое понятие или представление, полученное вне ее (в данном случае – в других философских системах), является только эмпирическим материалом и для научных целей должно быть специально введено в систему этой науки (проблематизировано в ней, представлено в рамках ее онтологии, доказано и т. д.). Например, Кант показывает, что известное философское понятие онтологии представляет собой аналитику чистого рассудка, а идущее еще от Платона понятие ноумена есть демаркационное понятие, служащее для ограничения притязаний чувственности и потому имеющее только негативное применение.
На мой взгляд, реконструкция творчества Канта демонстрирует два важных момента: с одной стороны, он, отчасти по образцу Аристотеля, строит новую машину мышления, с другой – как сказал бы Делёз, «размышляет» и тем самым создает необходимое условие для интеллектуальной встречи (Канта с математиком, физиком, этиком, современным ему философом), для «мышления-события».
2. Мышление-событие, мышление-встреча
Что ведет мысль Канта? Не столько правила рассудка или основоположения, хотя и то и другое корректирует ход мысли. Мысль Канта ведут необходимость осуществить критику традиционного мышления, решить три рассмотреные задачи, вера в Творца и Разум, убежденность Канта, что, с одной стороны, именно мыслящий субъект порождает реальность, а с другой – что это порождение ограничено опытом. Размышляя, рассуждая, создавая мыслительные схемы, Кант удовлетворяет (разрешает) все перечисленные требования, психологически, конечно, исходящие от самого Канта, но объективно – от мышления. Но в данном случае мышление – это не действие машины, а реализация личности Канта, реализация посредством творчества Канта требований новоевропейской культуры, создание Кантом условий для встречи с ведущими актерами «театра» Нового времени (математиками, физиками, этиками, философами).
Разницу между машиной мышления и мышлением-событием я почувствовал особенно остро, когда стал сравнивать два типа своих реконструкций гуманитарных текстов. Один, действительно, сводился к «пересчету» творчества определенных авторов, то есть я их подводил под уже имеющиеся схемы и представления. Например, анализируя творчество Галилея, я хотя и обсуждал некоторые особенности его личности (склонность к платонизму, интерес к технике и одновременно к науке по Архимеду, маниакальное упорство в отстаивании своих идей, гибкость мышления), тем не менее, и личность и творчество Галилея для меня выступали только как объекты изучения. Никакого личного отношения к Галилею у меня не было. Аналогично, анализируя «Исповедь» Августина, с которым я, естественно, никак не пересекался, я представил его творчество и путь как эзотерические, применив для этого выработанные мной ранее представления об эзотеризме. Как эзотерик Августин критикует и отвергает ценности обычной жизни, которая в данном случае совпадает с античной, утверждает существование подлинной реальности (христианского Бога и Града Божьего), понимает цель своей жизни как обретение подлинной реальности (возможность прийти к Богу), открывает в себе эзотерического человека (он его называет «внутренним человеком»), познает подлинный мир, одновременно порождая его. Говоря на языке Пузырея, я «пересчитал» Августина, применив к его творчеству отработанную на другом материале схему.
Иная познавательная ситуация имела место в случае исследования творчества А. С. Пушкина. Читая его письма, я как-то поймал себя на мысли, что мне совершенно не понятны ни поступки, ни высказывания великого поэта. В то же время, и игнорировать свое непонимание я не мог, слишком велико в моей душе было значение Пушкина: следуя за Мариной Цветаевой, я вполне мог сказать – «Мой Пушкин». Я не мог и жить с таким пониманием, точнее непониманием, и отмахнуться от возникшей проблемы. Читая дальше письма, я с определенным удовлетворением отметил, что сходная проблема не давала покоя и Петру Чаадаеву. Чаадаев пишет, что Пушкин «мешает ему идти вперед»; спрашивается, причем здесь Пушкин, иди вперед, если хочешь. Но в том-то и дело – если Пушкин мой, во мне, часть моего я, то и не могу отмахнуться, если не понимаю или не одобряю его поступки.
В результате, я вынужден был начать сложную работу. Памятуя совет Михаила Бахтина, который писал, что «чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, – с ними можно только диалогически общаться, думать о них – значит говорить с ними, иначе они тотчас же поворачиваются к нам своей объектной стороной», я предоставил право голоса самому Пушкину, чтобы он отвечал на мои недоумения. Для этого я искал в его письмах ответы на мои вопросы, пытался встать на его позицию, увидеть мир его глазами, сам и с помощью Ю. Лотмана реконструировал его время, нравы, обычаи и т. д. и т. п. Я анализировал поступки Пушкина и старался понять их мотивы, короче, делал все, чтобы Пушкин, действительно, стал моим, чтобы Пушкин, как писал Чаадаев, позволил мне идти своим путем, чтобы я смог жить вместе с Пушкиным. Не знаю, как это выглядит со стороны, но психологически мне это в конце концов удалось.
При этом я безусловно вел исследование творчества Пушкина, но главным было не подведение Пушкина под какую-то известную мне схему или теорию творчества, а движение в направлении к Пушкину и, тщю себя надеждой, движение Пушкина ко мне, поскольку я старался предоставить Пушкину полноценный голос. То есть мое исследование, как тип мышления, представляло собой создание условий для нашей встречи, для общения. Структура и «логика» мысли задавались в данном случае не правилами, категориями или построенной ранее схемой, хотя все это я использовал по мере надобности, а именно работой, направленной на встречу и общение с Пушкиным.
Встретившись с Пушкиным, я спросил себя, а нельзя ли сойтись поближе и с Августином? Однако ведь последний не встал поперек моего жизненного пути, подобно Александру Сергеевичу. Я не мог сказать – «Мой Августин». Что же делать, значит, мне дорога к Августину окончательно закрыта? И тут, вдруг, я вспомнил свой чуть ли не трехлетний диалог с известным философом, ученым и католиком Юлием Анатольевичем Шрейдером по поводу веры. Юлик отказывал мне в духовности потому, что я не верил в Бога, утверждал, что поскольку я не имею религиозного опыта, то со мной нечего разговаривать, что истина мне недоступна. Я возражал ему на это, говоря: можно жить духовно и без веры в Творца, что я не понимаю, как это такой ученый и философ, как Шрейдер, может верить в вечную жизнь, чудеса Священного Писания, Бога как личность и троицу. Мы спорили много месяцев, наговорили кучу умных вещей, но не продвинулись друг к другу ни на шаг. Каждый точно по Бахтину выражал себя через другого, но оставался при своем.
Вспомнив все это, я подумал, что моя позиция в диалоге со Шрейдером очень похожа на ту, которую имел Августин в начале своего жизненного пути (он любил жизнь во всех ее проявлениях, был ритором, философом и неверующим человеком), а позиция Юлика – на ту, к которой Августин пришел в конце концов (он стал не только глубоко верующим, но и активно разъяснял и распространял христианское учение). Тогда я понял, что у меня с Августином, оказывается, идет диалог, что это против меня Августин направляет свои стрелы и обличения, что я должен ему как-то ответить.
Я снова стал читать и анализировать «Исповедь» и увидел то, чего не видел раньше. Увидел, что вокруг Августина все, начиная с любимой матери, приходили к христианству и это не могло не влиять на них, заставляя «верить в Бога еще до веры». Что Августин проделал огромную работу, переосмысляя обыденные представления о Боге. Я прошел шаг за шагом вслед за Августином и понял, как идея Творца, сначала для него совершенно неприемлемая и неправдоподобная, постепенно становилась все более понятной и необходимой и, в конце концов, превратилась в реальность, в которой нельзя было усомниться. При этом опять я использовал различные представления и схемы, размышлял, но вела меня забота сделать шаг навстречу Августину (и Шрейдеру), а также дать им полноценный голос.