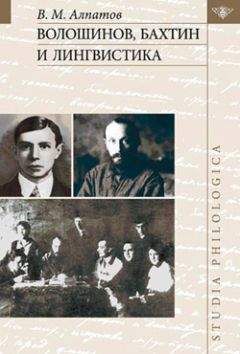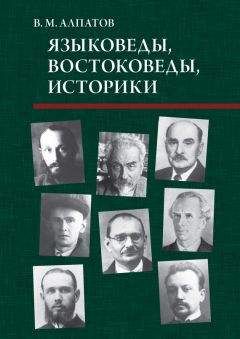Итак, дело даже не в позитивизме: позитивизм—лишь наиболее концентрированное выражение общей культурной традиции, восходящей к эпохе Просвещения. Это более или менее соответствует генезису «абстрактного объективизма» в МФЯ. Общее у всех направлений, преобладавших в лингвистике нескольких веков, – вера в существование за речевым хаосом чего-то стабильного и упорядоченного. У!младограмматиков (добавим, и их предшественника А. Шлейхера) это – область действия «естественных законов», не знающих исключений. У Соссюра и его последователей—это язык в противоположность речи. У Хомского – это компетенция «идеального говорящего». Исключаются из этого ряда, разумеется, Гумбольдт, Фосслер (упомянутый лишь попутно), МФЯ и более поздние работы Бахтина, а также Марр.
Отметим также особую трактовку Бодуэна де Куртенэ, который выделяется из числа позитивистов и сближается с Фосслером, поскольку они оба подчеркивали идею «об индивидуальном характере всякого владения языком, о неповторимости языкового мира каждой личности» (19). Высказано даже удивление по поводу того, что «парадоксальным образом, структуральная лингвистика увидела именно в Бодуэне своего ближайшего предшественника, с легкостью игнорируя или отметая как нечто „устарелое“ личностную психологическую основу его концепции языка» (19). О «принципиальном отличии философской позиции» Бодуэна от структуралистов говорится и в другом месте (30). Думается, что парадокса здесь нет. У Бодуэна психологизм (свойственный и многим его современникам) и «индивидуализм» уживались со стремлением строго эксплицировать лингвистические процедуры и с признанием правомерности синхронного подхода. Структуралисты могли найти для себя немало важного и нужного в его концепциях, действительно «игнорируя или отметая» многое другое. Важно, что Гаспаров отметил черты концепции этого выдающегося ученого, выходящие за пределы «абстрактного объективизма», что было проигнорировано в МФЯ.
Осуждаемый Гаспаровым традиционный подход к языку связывается им с представлением о языке как о сложном и рационально построенном механизме. Такой механизм «каким-то неизвестным, но вполне единообразным способом» помещается «в сознании каждого „носителя“ данного языка» (7). Разумеется, вопрос о том, где помещается этот механизм, или даже вопрос о том, существует ли он на самом деле, интересовал далеко не все критикуемые лингвистические направления (скажем, глоссематика от всего этого последовательно отвлекалась). Но некоторая общая основа у этих направлений оставалась при некоторых изменениях подходов. В начале ХХ в., как отмечает Гаспаров, «одномерная эмпирическая реальность позитивизма, состоящая из твердых фактов, которые предстоит лишь собрать и расставить по надлежащим местам, уступила место релятивному миру идеальных сущностей, образ которого на глазах создается и пересоздается концептуализирующей мыслью» (24). Однако «ученый-антипозитивист и ученый-позитивист сходились в том, что им обоим не нужно было „искать“ свой предмет: он оказывался задан с полной отчетливостью и очевидностью, для первого – эксплицитно сформулированными исходными параметрами конструируемой модели, для второго – непосредственным наблюдением» (25).
Сходные идеи видятся в книге и у Хомского, для которого «интуитивное знание говорящего представляет собой совершенную, идеально работающую структуру» (65). Думается все же, что этот ученый не умещается в указанных рамках не в меньшей степени, чем Бодуэн де Куртенэ (см. выше), хотя можно согласиться с тем, что ограничение сферы генеративной лингвистики компетенцией сближает Хомского с этим направлением.
В связи с этим вспоминаются споры в американском дескрипти-визме, которые один из их участников назвал спорами сторонников «божьей правды» и «фокус-покуса».[889] Сторонники первого подхода считали, что нельзя отрываться от «эмпирической реальности», а лингвистика—никак не игра; сторонники же второго подхода предпочитали играть, создавая «образ релятивного мира», но играть по строгим правилам. Отметим, что споры шли внутри структурной лингвистики; приписывать всем структуралистам отказ от поисков «божьей правды» не совсем точно. См. об этом также.[890]
Гаспарова не удовлетворяет ни то ни другое. Он ссылается на непосредственный «здравый смысл» носителя языка: «Стоит лишь отвлечься от готового представления о том, что „должен“ из себя представлять язык, и обратиться к тем непосредственным ощущениям, которые у каждого из нас имеются в связи с нашим каждодневным обращением с языком, как обнаруживаются существенные расхождения между картиной языка как механизма и многими самыми простыми и очевидными вещами, которые можно ежеминутно наблюдать в нашей языковой деятельности и которые, я думаю, каждому приходилось наблюдать и испытывать в своем личном языковом опыте» (9). «Наши взаимоотношения с языком» – «экзистенциальный процесс, столь же всеобьемлющий, но и столь же лишенный какой-либо твердой формы и единого направления, как сама повседневная жизнь» (9).
Вслед за МФЯ автор книги подчеркивает, что любые «стабильные лингвистические объекты», включая целые высказывания—лишь фикции. «Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата, созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования» (10). Всегда имеют место коммуникативные намерения автора, его отношение к тому или иному адресату, идеология эпохи и конкретных личностей, множество ассоциаций с предыдущим опытом и!много другое. «Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, в нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности» (5). Взаимодействие личности с такой средой (одновременно являющейся и обьектом, с которым эта личность работает) Гаспаров и предлагает называть языковым существованием личности. Изучение языкового существования рассматривается в книге как главная задача науки о языке.
Любопытно сопоставить понимание языкового существования в данной книге и в исследованиях описывавшихся выше японских ученых. И там и там говорится о «языковом существовании». И там и там оно связывается с отношением между носителем языка и средой, с деятельностью этого носителя. Однако есть и существенные различия. Во-первых, у японских авторов не говорится о языковом существовании личности: речь идет, прежде всего, о тех или иных больших или малых группах людей. Если методика исследования и требует изучать действия отдельной личности, то эта личность рассматривается как «типичный представитель» той или иной группы. Недаром в школе «языкового существования» такое место занимают статистические исследования и массовые обследования, мало интересующие Гаспарова. Для него наиболее значима интроспекция, изучение собственных психолингвистических ассоциаций. В Японии же интроспекция играла важнейшую роль для создателя школы языкового существования Токиэда Мотоки, но затем она отошла на второй план по сравнению с «объективными» массовыми обследованиями. Во-вторых, среда в японской школе понимается исключительно как внешняя среда, с которой взаимодействуют люди с помощью языка. Такая среда, естественно, «существует вне нас как объективированная данность». У Гаспарова же среда находится «в нас самих, в нашем сознании», следовательно, никакими «объективными» методами изучаться не может. Показательно в связи с этим отрицательное его отношение к привлечению лингвистами материалов нейролингвистики, включая исследования афазий. В этом он видит лишь «материалистический буквализм» позитивистской линт вистики», стремящейся «отыскать объективные психологические и нейрофизиологические параметры» (7).
Таким образом, и сходная в некоторых отношениях японская школа языкового существования оказывается, если судить о ней с позиций Гаспарова, слишком «объективистской», стремящейся изучать массовое, а не индивидуальное. При этом можно отметить, что и в Японии довольно крайний субьективизм у Токиэда стал у его последователей сменяться попытками более объективно подойти к своему объекту, получая проверяемые результаты.
Встает закономерный вопрос: почему мировая наука о языке постоянно идет по пути, осуждаемому Гаспаровым? Он справедливо отмечает, что «позитивистский подход» опирается на «громадную традицию… идущую от латинских грамматик поздней античности и века схоластики» (22). Фактически, как мы помним, это сказано и в МФЯ. Можно добавить и то, что так обстоит дело и за пределами Европы и Америки. В то же время идеи Гумбольдта мало повлияли на изучение конкретных языков. Весьма точные оценки этой ситуации у Гаспарова я уже цитировал в первой главе.