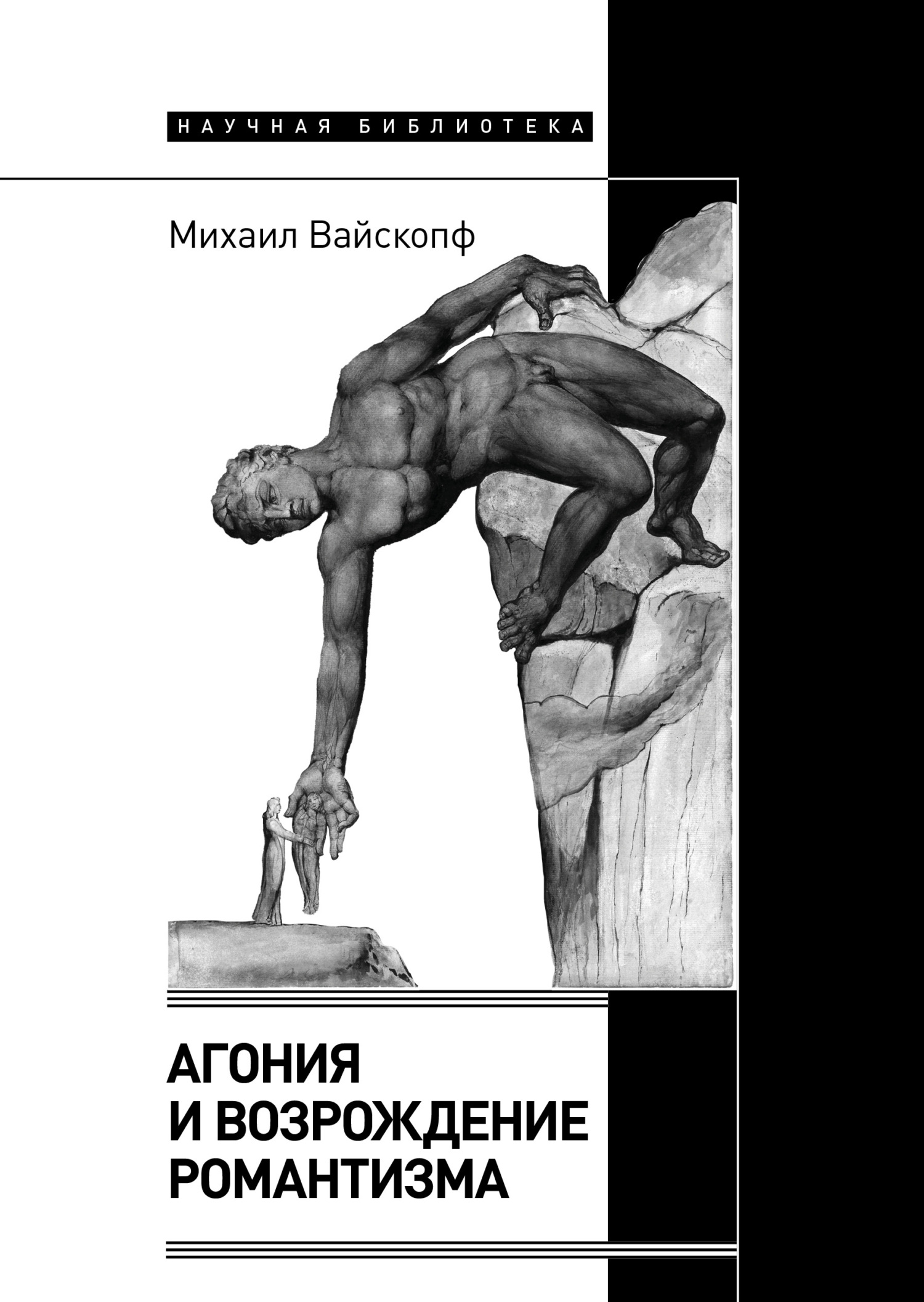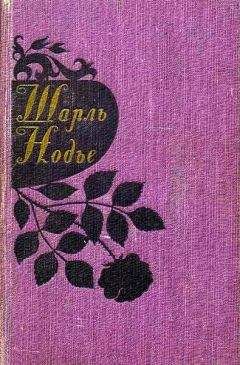делать, сопровождал ее в походах на рынок (вдова экономила на прислуге). Ее житейская любознательность исчерпывалась проницательными взорами, которые она обращала на картофель, брюкву и самих торговок – ибо свои гастрономические наблюдения вдова увязывала с физиогномическими; и, глядя на нее, Каспар убеждался, что тайная гармония сочетает людей с овощами.
Ночью, когда шумел ветер, ему все чаще чудилось, будто кто-то грозный идет по вершинам тутовых деревьев – а потом в соседнем саду кто-то другой, слабо вторя ему, идет по земле. Там, должно быть, отцвели яблони – теперь их аромат забивала резеда, и, когда поднималась луна, Каспар, внимая шелесту шагов, слышал из-за стены чье-то пение, до того неуловимое, что оно казалось ему прекрасным и трогательным.
Позднее, это было почти осенью, его посетил сон, в котором голос обрел живую плоть и наполнился словами, проступившими из самой музыки, словно ее условный перевод – с ангельского на человеческий. Голос пел про любовь в сени зеленых ветвей, про уже совсем созревшее счастье, про тяжесть смелых плодов, готовых упасть на землю, чтобы наконец воссоединиться с нею, – и сквозь этот голос студент вспоминал, что похожую притчу он уже встречал в какой-то книге – быть может, переводе с еврейского. Но у слов уже были уста, было лицо, прекрасное девичье лицо, озаренное серым сиянием, смотревшим Каспару прямо в сердце. Глаза эти, будто отделяясь от ее лица, все приближались к нему – и когда уже почти сомкнулись с его собственными зрачками, он проснулся.
Придерживая сердце ладонью, Каспар вышел из дома. Над лесом нависал туман, но уже чуть подсвеченный каймою зари. Где-то за стеной, совсем рядом, он услышал все тот же голос – но слова удалялись, и опять, как наяву, он не мог разобрать их. Тогда, хрипло дыша и ободрав в кровь пальцы, студент взобрался на стену и начал вглядываться в белесую муть. В ней обозначились какие-то ветви, невидимый голос скользил между ними в предрассветном тумане – и вдруг под одной из тяжелых от плодов яблонь студент различил силуэт девушки в белом платье. Она говорила с кем-то невидимым, будто отвечала на вопросы или возражала – ветер доносил только клочья и лепестки слов. Словно привлеченная его взглядом, она обернулась, – тогда Каспар узнал абрис девичьего лица, и на мгновенье его ослепил серый луч. Все сразу исчезло, туман спрятал деревья и придавил сад. Каспару стало холодно, он спрыгнул на землю и вернулся к себе.
Проснулся он очень поздно, от какого-то неприятного шума, доносившегося из-за садовой стены, – казалось, будто в соседский дом вселился грубый и хлопотливый жилец. Студент вышел за ворота – и вдруг заметил, что железная дверь распахнута настежь, а внутри толпятся какие-то люди. Наконец оттуда вынесли гроб, за которым шел бородач с черным крепом и уже знакомые Каспару старуха со стариком; к ним прибавились еще какие-то непонятные, совсем безликие спутники. Потрясенный Каспар молча увязался за шествием. Никто не говорил ни слова. Никто и не плакал. Он заглянул в гроб – и застыл в горестном страхе. Там лежала та самая девушка в белом платье – он сразу узнал ее, хотя глаза ее были закрыты.
Каспар не пошел ни в церковь, ни на похороны. Вместо того он вернулся к железной двери, и, чуть помедлив, распахнул ее. Никакого сада там не было. Не было вообще ничего – и, схваченный ужасом, он упал лицом в пустоту.
Очнулся Штерн только к ночи. У постели сидел дружелюбный городской доктор, обставленный микстурами. Он прихлебывал кофе со сливками, окуная в него печенье.
– Сердце! – возгласил он. – Сердце, молодой человек. Грешно так пренебрегать своим здоровьем.
– Вот и я говорю, – помавая стальными спицами, прогудела фрау Кунц из недр старого кресла. – Господин студент слишком переволновался из-за чужой кончины.
– А вы были на похоронах? – спросил ее Каспар. Он приходил в себя очень медленно. Лицо домохозяйки распадалось в вечерних огнях; тени от спиц сновали по стене.
– Конечно, нет, это не в моих правилах. Я никогда не хожу к незнакомым покойникам.
– Зато я хорошо знал бедняжку, – возразил доктор, – а потому присутствовал вместе с ее родными на отпевании. Увы, очаровательная Катарина Фогельмайер не дожила и до двадцати. Сиротка была наследницей людей состоятельных, однако, при всей своей редкой красоте, никакой радости от жизни так и не получила. Я пользовал ее несколько лет, но, по правде сказать, в лечении не было особого проку. А теперь она скончалась… Поправляйтесь, молодой человек. Вам нужен покой. Как справедливо утверждают поэты, жизнь – лишь мимолетная иллюзия, а потому до́лжно заботиться о ее продлении. Рецепты на столе, и фрау Кунц проследит за тем, чтобы вы вовремя принимали лекарства.
На следующее утро совсем еще слабый Каспар робко постучался в железную дверь, чтобы выразить соболезнование родне Катарины. Его встретила все та же нелюдимая старуха, которая без всяких расспросов повела студента в дом. Штерна вновь поразило то, что никаких яблонь и вообще никаких деревьев тут не было – на сей раз он увидел во дворе только редкие клумбы, словно пестрые островки на вялой траве. Возле одной из них, не обращая на него никакого внимания, копался в земле тощий старик – тот же самый. Введя гостя в гостиную, старуха усадила его на диван возле столика, над которым висела неведомая картина – возможно, портрет умершей, закрытый полотном, как и зеркала в этом доме.
– Вам придется подождать, пока вернется господин Иммерих. Он отлучился в город, но, скорее всего, ненадолго. Это кузен фройлейн Катарины.
– Я даже не знал ее имени, – смущенно сказал Каспар. – Но мне часто доводилось слышать ее чудесное пение, когда она вечерами прохаживалась в саду…
– То есть как? – внезапно оборвала его старуха. На ее деревянном лице, как на палимпсесте, проступило изумление, окрасившее его на мгновение человеческими тенями. – Простите меня за резкость, но все это какой-то вздор. Прежде всего, я отнюдь не стала бы величать это место садом. Во-вторых, петь она просто не могла – несчастная девушка была немой. А в-третьих, как это – «прохаживалась»? Я ведь несколько лет прослужила сиделкой при Катарине, и уверяю вас, ходить она вообще не могла. Еще в раннем детстве она перенесла ужасную травму, навсегда осталась калекой, и по вечерам я сама выгуливала ее в кресле-каталке. По совести говоря, эта страдалица, при всей своей красоте, не была человеком – скорее его жалким подобием. Да вот, извольте взглянуть. Это портрет Катарины, который год тому написал ее кузен, художник. Уверяю вас, это очень точное изображение, ибо Всевышний, в щедрости Своей, даровал господину Иммериху талант, официально засвидетельствованный Мюнхенской