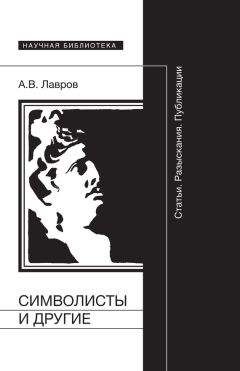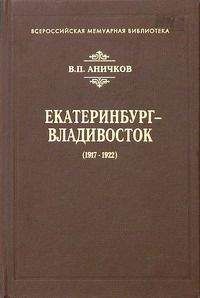Выход в свет «Стихов и прозы» Ивана Коневского в последние дни декабря 1903 г. вызвал несколько печатных откликов. В изданиях, занимавших в целом негативную позицию по отношению к «новому» искусству, формулировка на титульном листе «Посмертное собрание сочинений» лишь в малой мере сумела приглушить негодующий пафос критиков-«традиционалистов». Более других готов был считаться с указанным обстоятельством анонимный рецензент в «Русской Мысли»; по его мнению, «книга эта не может иметь литературного значения», она – «только история исканий рано умершего человека, и только в этом смысле, в смысле документов, рисующих историю тяжелых душевных усилий, она интересна», в целом же «личность автора остается неясной и непонятной»: «Если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадочную, тяжелую, видно только одно: мы, читатели, как бы присутствуем при ряде тяжелых, трудных опытов, которые производил над собой остро мыслящий человек с целью найти, определить самого себя и свой путь».[148] Н. П. Ашешов, снисходительно отозвавшись о прозе Коневского («Тут хоть что-нибудь можно понять. И мы должны признать, что у молодого автора было несомненное критическое чутье и искренность»), в оценке его стихов беспощаден: «чепуха, в которой разобраться может только модернист, освободившийся от законов восприятия, мышления, умственных понятий и т. д.»[149] Наконец, поэт и консервативный публицист Николай Матвеевич Соколов в своем отзыве счел необходимым отмежеваться от составителя посмертного сборника, Н. М. (Николая Михайловича) Соколова, а при аттестации стихов Коневского не пожалел бранных слов («глупая белиберда», «предел глупости», «вымученная и кривляющаяся изломанность»): «Какими идиотами надо считать читателей, чтобы издавать и пускать в продажу эту неутомимую и ожесточенную чепуху!»[150]
Наряду с этими вердиктами появились, однако, и аналитические характеристики творчества Коневского, продиктованные стремлением понять и беспристрастно оценить его своеобразие и художественную значимость. А. А. Смирнов, в 1900-е гг. начинающий поэт и критик из круга петербургских модернистов, а впоследствии видный филолог, историк западноевропейских литератур, в статье «Поэт бесплотия» отметил «редкий, исключительный талант», проявляющийся «в острой сознательности, разумности» его поэзии: «Но эта сознательность – не обыкновенный, будничный рационализм. Принимая безудержный, стихийный характер, она достигает у него сверхчеловеческой силы. Природа, жизнь совершенно преображаются в его творчестве. Это – какая-то новая, мистическая натурфилософия, с ее своеобразным, поражающим “разумом” гор, моря, городов…»[151] Вместе с тем Смирнов осознает внутреннюю недостаточность, ущербность такого всеобъемлющего разума: «Этот холодный, мертвенный разум, эта попытка диалектики разрешить живой разлад едва ли кого удовлетворит» – и идет от такого осознания к предположению о том, что у Коневского не было внутренних потенций для разрешения противоречий, заложенных в его мировоззрении и творчестве (среди которых важнейшее – противоречие между глубокой любовью к жизни и «отречением от плоти»), что его индивидуальность окончательно сформировалась и воплотилась: «…ясно видно, как он все более замыкался в своем кругу. Какой-то рок, казалось, завладел им, и неожиданно ранняя смерть его не удивляет, не возмущает. Заметно, как творчество Коневского слабеет в последние два года его жизни. Он совершил свой малый круг, и совершить другой, более великий, ему не было дано».[152]
Еще более высокую оценку творчества Коневского дает автор статьи «Неизвестный поэт» С. Крымский (С. Г. Кара-Мурза). Если Смирнов прислушивается особенно чутко к нотам внутреннего разлада в самосознающей душе поэта, то для С. Крымского его художественный мир привлекателен прежде всего отображением в нем стихийной цельности и полноты бытия: «Коневской, по своим творческим настроениям и по своим теоретическим воззрениям на искусство, несомненно примыкает к группе наших молодых поэтов, во главе которых идут гг. Бальмонт и Брюсов. Но ни у одного из них я не встречал такого непосредственного, такого первобытно-девственного, чисто овидиевского проникновения в жизнь природы, каким отмечены все произведения Коневского. И в этой целомудренной любви к космосу таится ‹…› вся красота и прелесть его поэзии».[153] На тех же мажорных началах акцентирует внимание Н. О. Лернер в своем почти восторженном литературном портрете Коневского, обретающего под его пером черты нового Эвфориона – прекрасного юноши, сына Фауста и Елены из второй части трагедии Гёте, гибнущего в своем неудержимом стремлении в мировую беспредельность. Коневской в интерпретации Лернера – «вечный тайновидец», способный «зорко и пытливо» взирать на «солнце истины».[154]
В 1904 г., когда вышел в свет посмертный сборник произведений Коневского, уже заявили о себе в литературе наиболее крупные представители второй волны русского символизма, поэты мистико-теургического склада, по отношению к которым автор книги «Мечты и Думы» во многом оказывался предтечей. Однако это обстоятельство утверждению высокой репутации натурфилософской поэзии Коневского существенно не способствовало. Влияние ее на поэзию начала XX века было не магистральным, а своего рода «боковым», спорадически сказывающимся у авторов, принадлежавших к разным литературным поколениям. Замкнутый в своей самодостаточности, художественный мир Коневского лишь в редких случаях способен был стимулировать и обогащать творческие силы других поэтов.
Андрей Белый, дерзновенный «новатор», чьи первые литературные опыты побудили Брюсова летом 1902 г. с надеждой провозгласить: «Вот очередной на место Коневского!»,[155] – живого интереса к произведениям укорененного «архаиста» не проявил. Очевидные черты сходства с Коневским находили у Вячеслава Иванова; кажется, первым на эту параллель указал в упоминавшейся статье С. Крымский: «Стих Коневского, по большей части, легок и как-то мечтательно прозрачен, и это несмотря на то, что слова и эпитеты поэта временами бывают как-то умышленно тяжеловесны. Он нередко употребляет архаические русские слова, из боязни банальным обиходным словом навлечь оттенок будничной пошлости на изображаемый предмет. В этом отношении Коневской несколько напоминает другого, также мало известного, но весьма оригинального поэта Вячеслава Иванова».[156] Последний сумел воспринять творчество Коневского надлежащим образом («Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным»), но серьезного внимания к нему не выказал и от родившейся было идеи написать о нем отказался: «…влечет – но и пугает трудностью тонкой задачи».[157] Н. Л. Степанов справедливо видит развитие круга тем и мотивов, характерных для Коневского, в поэзии Ю. Балтрушайтиса, в которой также «основной философской идеей ‹…› является соотношение личности и мира, познание его трансцендентной сущности», а в плане выражения «сказывается сочетание абстрактно-философской схемы и словесной точности, отличающее и поэзию Коневского».[158] Но в данном случае скорее можно говорить о созвучии творческих индивидуальностей, чем о непосредственном влиянии. Наиболее отчетливым и глубоко проникающим было воздействие Коневского на лирику Блока. В рецензии на книгу А. Л. Миропольского (1905), включающую поэму «Лествица», посвященную Коневскому, Блок воспользовался этим поводом, чтобы очертить в нескольких строках тот образ покойного поэта, который сложился в его сознании. По мысли Блока, Коневской представляет собой определенный этап русской поэзии, когда она из «собственно-декадентства» стала переходить к символизму; «одним из признаков этого перехода было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой», и в стихах Коневского он улавливает самое подлинное и глубокое постижение этого многосоставного «почвенного» начала: «финская Русь была воспринята им сильно, уверенно – во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности».[159] Многообразные следы влияния Коневского на Блока, фиксируемые в целом ряде скрытых цитат и реминисценций, концентрируются в основном в плане раскрытия «родовых», эпических пластов бытия (наиболее наглядно эта связь иллюстрируется сопоставлением стихотворения Коневского «В роды и роды» с циклом Блока «На поле Куликовом»).[160]
Среди меньших по масштабу поэтов символистской школы «гениального Ивана Коневского»[161] почитал Вл. Пяст; тому свидетельство – его стихотворение «На мотивы Ив. Коневского»: