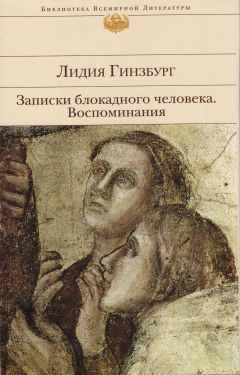260
Для Толстого, впрочем, как и для всех писателей XIX века, практически существуют границы изображаемого. Сопоставляя дневники Толстого с толстовским художественным использованием автобиографического материала, можно убедиться в том, что и он смягчал психологические коллизии. Так, в дневнике 1863 года первый год семейной жизни изображен порой очень жестокими и неблагообразными чертами. Этот опыт использован в описании первого периода семейной жизни Кити и Левина, трудного периода взаимного привыкания. Но в романе все гораздо суммарнее, чем в дневниках, и неблагообразные черты пропущены.
Имеется в виду «Мир как воля и представление».
В толстовском человеке из народа внутреннее «сознание» слито с его натуральной обусловленностью и противостоит только искусственно навязанным формам (солдатчина Каратаева, например).
Иногда мотивы обоих рядов сталкиваются неразрешимым образом. «Казаки», например, история того, как свободный выбор нового склада жизни не удался, наткнувшись на социальную обусловленность, с одной стороны, героя, Оленина, с другой – казаков, извергающих его из своей среды.
Кризис Толстого принял острую форму начиная с 1876 года. И именно в «Дневнике писателя» того же 1876 года (октябрь, декабрь) в статьях «Приговор» и «Голословные утверждения» Достоевский создал своего «логического самоубийцу», человека столь непомерной интенсивности личного самосознания, что он не может вынести противоречие между своей ценностью и своей конечностью. Если нет веры в бессмертие души, – остается самоуничтожение: «Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя и – он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно». К этому кругу идей тяготеет уже исповедь Ипполита в третьей части «Идиота» (1868). В 1876 году Достоевский писал о том самом, что переживал в это время Толстой.
«Все мое ношу с собой» (лат.).
Народное благо (лат.).
Каждый за себя (фр.).
Ср. вариант этого текста в набросках 1854–1855 годов (XII, 474).
Леонтьев К. Собр. соч. Т. 8. С. 236–237.
Бахтин М. Предисловие // Толстой Л. Полн. собр. худож. произв. Т. 13. М.; Л., 1930. С. VIII и др. О художественных формах, в которых воплощается прямая тенденциозность позднего Толстого, см. также: Билинкис Я. С. Повествование в «Воскресении» // О творчестве Л. Н. Толстого. Л., 1959.
В трактате «Так что же нам делать?» (1882–1886) Толстой объясняет успех идей Гегеля тем, что они «оправдывали людей в их дурной жизни».
В одной из первоначальных редакций тринадцатой главы третьей части «Воскресения» Толстой анализирует мотивы поведения женщин-революционерок с резкостью, от которой он впоследствии отказался. «Свои девичьи порывы и мечты, – говорится там, например, – в основе которых лежало желание любви, представили и другим, и себе в виде желания служения человечеству…»
У нас этот интерес, в частности, выразился в появлении за последние годы ряда книг, посвященных документальной литературе. Например: Явчуновский Я. И. Документальные жанры. Саратов, 1974; Цурикова Г., Кузьмичев И. Утверждение личности. Очерки о герое современной документально-художественной прозы. Л., 1975; Банк Н. Нить времени. Дневники и записные книжки советских писателей. Л., 1978.
Эстетические потенции «теории ролей» отчетливо выступают, например, в книге американского социолога Д. Г. Мида: человек включается в символическую систему ролей. Человек – своего рода зеркало. Он непрерывно рассматривает себя, но рассматривает с точки зрения некоего группового сознания (генерализированный другой). См.: Mead D. Herb. Mind, Self and Society. Ch., 1934.
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков. Л., 1973. С. 70, 132.
Н. Эйдельман пишет: «Восемь декабристов – Якушкин, Лорер, Розен, Штейнгель, А. М. Муравьев, Цебриков, Трубецкой, Басаргин – видят происходящее с помощью одного и того же Мысловского. В тот же день, 13 июля, расспросят, запомнят. Но как по-разному они видят!» (Эйдельман Н. Апостол Сергей. М., 1975. С. 375).
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 13. М., 1958. С. 93.
См.: Painter G. D. Marcel Proust. A Biographie. V. 1. London, 1959. V. 2. Boston – Toronto, 1965.
Proust M. Correspondance gе́nе́rale. V. 3. Paris, 1932. P. 69–70.
Эта условность всегда мучила Толстого, хотя он и был величайшим создателем объективного художественного мира. В одном из незавершенных предисловий к «Войне и миру» Толстой писал: «…Необходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли, которые сами собою родились во мне, так мне становилась противна, что я бросал начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что мне хотелось и нужно высказать». А в самом конце своей жизни, 12 января 1909 года, Толстой записывает в дневнике: «…Художественная работа: „Был ясный вечер, пахло…“ – невозможна для меня. Но работа необходима, потому что обязательна для меня. Мне в руки дан рупор, и я обязан владеть им, пользоваться им… Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы: не как статьи, рассуждения и не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь».
При этом возникают, разумеется, суждения, которые дальнейшим ходом повествования будут сняты. Например, П. В. Анненков, рецензируя в 1868 году журнальный вариант первых трех частей «Войны и мира», называет Наташу Ростову существом, «которое потом так печально разоблачает себя» (Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. Отд. 2. СПб., 1879. С. 369). Анненков уже прочитал историю влюбленности Наташи в Анатоля Курагина, но – как это ни странно для нас – он ничего не знает еще о Наташе, спасающей раненых при отъезде из Москвы, о Наташе у постели умирающего Болконского, ни о Наташе «Эпилога».
Вопрос об этих предварительных формулах литературного героя восходит к более общему вопросу соотношения части и целого в эстетическом объекте. Шлейермахер, один из крупнейших теоретиков немецкого романтизма, в свое время утверждал, что понять фрагмент произведения можно только исходя из внушенного этим фрагментом предварительного, приблизительного представления о целом. В процессе дальнейшего чтения каждый новый фрагмент дополняет, изменяет, исправляет это представление. И оно, в свою очередь, по-новому освещает частности воспринимаемого текста (об этой проблематике см.: Гайденко П. П. Герменевтика и кризис буржуазной культурно-исторической традиции // Вопросы литературы. 1977. № 5). В литературоведении XX века этот подход разработал на практике Лео Шпитцер. От стилистических деталей он переходит к концепции целого как выражения мировоззрения автора. И возвращается отсюда к дальнейшему анализу текста. Этот метод «предвосхищения целого» Шпитцер теоретически обосновал – со ссылками на Шлейермахера, на Дильтея – в вводной главе к книге «Linguistics and Literary History. Essays in Stilistics» (Princeton, 1948).
Цит. по статье Е. Гунста «Жизнь и творчество аббата Прево» (Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. М., 1964. С. 236).
В своей книге «Проблема стихотворного языка» Ю. Н. Тынянов выдвинул концепцию динамического литературного героя: «…Достаточно, что есть знак единства, его категория, узаконивающая самые резкие случаи его фактического нарушения и заставляющая смотреть на них как на эквиваленты единства. Но такое единство уже совершенно очевидно не является наивно мыслимым статическим единством героя; вместо знака статической целости над ним стоит знак динамической интеграции, целостности. Нет статического героя, есть лишь герой динамический. И достаточно знака героя, имени героя, чтобы мы не присматривались в каждом данном случае к самому герою» (Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 27). См. также незавершенную статью Тынянова «О композиции „Евгения Онегина“» и комментарий к ней А. Чудакова (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977). Отправляясь от Тынянова, мысли о динамическом герое развивал Л. Выготский в книге «Психология искусства» (изд. 2. М., 1968. С. 283–284 и др.).
Проблема эта в плане специфики построения литературного образа поставлена была в статье И. М. Семенко «О роли образа „автора“ в „Евгении Онегине“» (Труды Ленинградского библиотечного института. Т. 2. Л., 1957). См. также ее статью «Эволюция Онегина (к спорам о пушкинском романе)» // Русская литература. 1960. № 2.

![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/141514/141514.jpg)