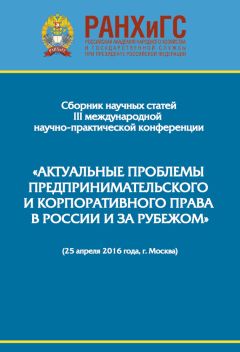Однако общность стратегии не помешала тактическим различиям достаточно принципиально разрастись, вплоть до, как мы видели, решающего в лингвистическом плане радикального разногласия в вопросе об обязательности или необязательности языковой объективации референта. О радикальности такой, инициированной в ее полном объеме именно Ивановым, постановки вопроса свидетельствует и то обстоятельство, что своей идеей запрета на объективацию референта Иванов вставал в оппозицию не только по отношению к имяславию, но и по отношению к тем концепциям, которые сами содержат прямую критику теорий вроде имяславия. Так, запрет на объективацию оказывается не релевантен и в теории дескрипций, которые, как и имена, рассматриваются в качестве самостоятельного способа референции.
В самом деле, большинство из приводимых и анализируемых в лингвистике этого типа дескрипций изначально объективированы (нынешний король Англии, автор «Ваверлея» и др.), но и те из них, которые включают в себя глагольную составляющую и тем самым как бы распространяют свою референцирующую (без именования) функцию в зону предиката, всегда принципиально могут быть свернуты в дескрипции, не выходящие за рамки функций субъектной позиции суждения (ср. трансформацию «Человек, который заходил сегодня…» в «Приходивший сегодня человек…»). Эта принципиальная возможность сохраняет и поддерживает принимаемую в этом направлении идею функционального разведения субъекта и предиката. Во всех случаях дескрипций имеется основное объективирующее слово, обеспечивающее «фундамент» референции; к этому слову могут быть присоединены дополнительные референцирующие же языковые средства, сколь угодно синтаксически продлевающие саму дескрипцию, но в конечном счете, чтобы создать полноценное суждение или предложение, к каждой содержащей это слово референцирующей дескрипции всегда должны быть присоединены и собственно предикаты, рассматриваемые в этих теориях как уже не участвующие в референции (по Иванову же, напомним, предикативная зона суждения входит в референцию).
Таким образом, принципиальное в других отношениях различие между имяславием и теорией дескрипций, касающееся понимания функции предиката (как «тоже именования» в имяславии и как процесса, именованию противопоставленного – предикаты, по Расселу, напомним, не именуют) в нашем контексте несущественно. Нам важно подчеркнуть сходство этих обычно резко противопоставляемых лингвистических концепций: и в имяславии, и в теории дескрипций в качестве необходимой и первичной основы референции признаются, в отличие от ивановской позиции, объективирующие потенции языка.
Сближает эти лингвистические концепции и то, что включающие глагольную составляющую дескрипции легко и безболезненно сворачиваются, как мы видели, в безглагольные и беспредикативные дескрипции, а это процесс, в чем-то безусловно аналогичный тому, что мыслилось в имяславии под возможностью свертывания предложения в имя. И здесь, как видим, общая у теорий дескрипций и имяславия пресуппозиция (равно отличающая их от Иванова), согласно которой тому, что выполняет в речи функцию референции, естественно как бы «слоями» сворачиваться вплотную к несущему первичную объективацию слову.
Последняя аналогия, однако, не может быть, конечно, полной, так как в имяславии все предложение в целом, включая и предикат, есть факт именования, и потому оно все может сворачиваться в имя. В теории же дескрипций, сохраняющей противопоставление субъекта и предиката, процесс сворачивания ограничен дескрипциями; предикат остается ему неподвластным.
В таком ракурсе теория дескрипций оказывается удачным контрастным фоном для выявления различий уже между ивановской и имяславской позициями: ивановский миф, по определению содержащий глагольный предикат не может, – так же, как и в теории дескрипций, но противоположно имяславскому тезису – быть свернут в имя. Однако, в ивановском пространстве это происходит не потому, что предикат не участвует в референции, выполняя свою «иную» функцию, что и является причиной невозможности «сворачивания» предложений в теории дескрипций, а наоборот, именно потому, что он в ней участвует, скрещиваясь с субъектом. Обратность логики вызвана различием в пресуппозициях: предлагаемый Ивановым комплементарный тип референции строится не на объективирующей силе языка, создающей базовое объектное слово, «внутрь» которого естественно стремятся свернуться другие участники сложного по языковому строению референциального акта, а на семантико-синтаксической силе языка, создающей референцию путем скрещения, предполагающего для своего осуществления сохранение как минимум двух скрещиваемых зон, что, таким образом, лингвистически препятствует тенденции к свертыванию таких предложений в имя, а мифа – в символ.
Итак, ивановский миф, так же как и символ, не имя, но особый, принципиально не именной, тип референции. Мы вернулись к главной загадке ивановской позиции – к его настойчивому тезису об обязательной глагольности предиката в мифологическом суждении, осуществляющем, как выясняется, не предикативную (в ее привычном понимании), а референцирующую функцию. На первый взгляд простое и ясное ивановское требование глагольности предиката в мифологических и символических фигурах в действительности оказывается многовекторным и полифункциональным в лингвистическом отношении.
Так, оно может быть понято как лингвистически завуалированное выражение категорического ивановского «запрета» не только на именование символического референта, но и на любые другие языковые способы его объективации. Удобным фоном для интерпретации этого ивановского запрета опять оказывается теория дескрипций, так как выясняется, что ивановские символические фигуры речи не могут быть свернуты не только в имена, но и в дескрипции. «Солнце раждается» (ивановский пример пра-мифа) не может без искажения и даже потери исходной референции быть трасформировано в какую-либо языковую форму без глагольного предиката или в дескрипцию (в «рождение солнца», «рождающееся солнце», «солнечноерождение», «солнце-рождение» и др.). Все эти формы и дескрипции имеют свои референты – но не тот, что был в мифе «Солнце раждается». Дескрипции, как мы видели, основаны на объективирующей силе языка, ивановские же символические фигуры стремятся отказаться от этой опоры, и требование глагольной формы предиката как раз и есть в определенном смысле выставляемая Ивановым императивная преграда на искажающем символический референт пути к его языковой объективации.
В имяславии, культивирующем объективирующие потенции языка, такой императивной преграды, соответственно, не существует, и глагол, понимаемый здесь как частный случай именования, может безболезненно для референции семантически «вворачиваться» в объективирующую именную группу (у Булгакова признается возможным, как мы помним, следующий трансформационный ряд: «человек сидит» – «человек есть сидящий» – «сидящий человек»). На фоне этих допустимых в имяславии, но отрицаемых Ивановым трансформаций можно расширить наше предположение и говорить, что ивановское требование глагольности предиката выражает запрет на объективацию референта не только в изолированном символе, но и распространяет этот запрет дальше, на все языковые процессы в целом. Во всяком случае здесь видно, что вектор запрета способен перемещаться с лексико-семантической или сигнификативной области на синтаксис. Запрет на объективацию «читается» в этом случае как запрет на объективацию (то есть свертывание в именную группу) самого предикативного акта – самого так называемого «ядерного» синтаксического процесса. А это уже нечто лингвистически более значительное, чем просто запрет на объективацию изолированно понятого предиката; здесь проявляется идея несомого предикативным актом особого символического равновесия субъекта и предиката, их комплементарной взаимодополнительности, необходимой для рождения символической фигуры речи (подчеркнем: это не традиционное функциональное противопоставление субъекта и предиката, но, наоборот, их равновесное соположение на едином референцирующем стержне).
Действительно, ивановское требование глагольности предиката не только допускает, но прямо предполагает возможность своего «обратного» прочтения: так как глагольная форма предиката может быть лингвистически обеспечена в своем реальном появлении только одновременным наличием фиксированного языком субъекта суждения, то этим требованием, следовательно, накладывается запрет не только на объективацию референта (этот смысл ивановского запрета был подробно интерпретирован выше), но и на его абсолютную «динамизацию». Наличие глагольного предиката требует наличия субъекта. Ивановские субъект и предикат оказываются, таким образом, бинарно-контрастной, антиномически напряженной, но и взаимообеспечивающей лингвистической парой. В таком развороте темы ивановская идея оборачивается запретом и на скольжение в речи никак не «уякоренных» текучих предикатов, и на представление о символическом референте как о сплошной динамической процессуально сти.