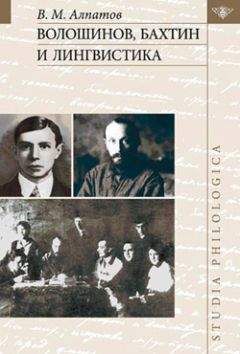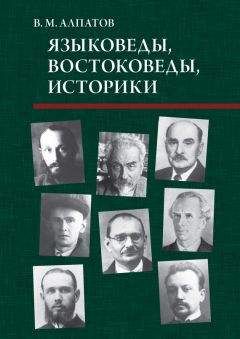Различны и сочинения ученых. Ограничимся лингвистическими (включая волошиновский цикл). О чем бы ни говорилось и в этом цикле, и в поздних работах Бахтина, всегда речь идет об общей теории. Даже совсем, казалось бы, конкретная по теме статья о вопросах стилистики на школьных уроках связана с теорией языка. А конкретных примеров всегда немного, причем их анализ в целом значительно менее интересен, чем общие построения (подробнее об этом в тре-тьей и шестой главах). И в истории лингвистики в МФЯ рассмотрены, прежде всего, глобальные вопросы: что такое язык, что такое речевое высказывание и т. д. И беглый суммарный анализ развития мировой науки от древних греков до современности гораздо ярче, чем сухой пересказ французских и немецких работ по несобственно-прямой речи.
И совсем иное впечатление производят лингвистические труды Виноградова. Обратимся, например, к самому капитальному из них – обьемистой книге «Русский язык».[137] Обьем книги, прежде всего, создается за счет огромного количества конкретных примеров. И невозможно не признать, что примеры умело подобраны и хорошо проанализированы. Этот анализ – главное достоинство книги. Большое место в ней занимает и изложение существующих точек зрения на те или иные проблемы, в этом отношении она очень информативна. А говорить об общетеоретической концепции автора нелегко. В целом эта концепция близка к Петербургской школе и особенно к Л. В. Щербе, но не везде она выражена последовательно и она постоянно тонет в частностях. Недоброжелатели Виноградова говорили об «эклектике» и «пасьянсе чужих мнений». Тут было немало преувеличений, но все-таки надо сказать, что теоретиком лингвистики Виноградов не был, хотя в 50—60-е гг. его в СССР многие воспринимали в этом качестве (такую репутацию он получил и в некоторых других странах, например в Японии). Отмечу и то, что ученый всегда занимался только одним языком – русским. Конечно, в любой стране мира наука о собственном языке как часть науки о собственной культуре исключительно важна. А Виноградов почти полвека был одним из крупнейших в мире специалистов по русскому языку, много знавшим, много читавшим (в том числе и зарубежную литературу по специальности, что тогда было не часто у наших русистов), обладавшим прекрасной языковой интуицией, помогавшей ему убедительно анализировать примеры. В изучении фактов русского языка он сделал очень много. В лингвистических текстах Бахтина 40—50-х гг. также почти все примеры взяты из русского языка, но от этого эти тексты не становятся сочинениями по русистике. Это работы по теоретической лингвистике.
Для мыслителя Бахтина, прежде всего, был важен процесс поиска истины. Он, как уже говорилось, умел выступать и читать лекции, не отказывался, особенно в молодости, от выступлений перед самой неблагодарной аудиторией, но по-настоящему хорошо чувствовал себя лишь в кругу друзей и наедине с книгой и листом бумаги. В молодости, до ареста, атмосферой его жизни были многочасовые беседы в табачном дыму о мировых проблемах с узким кругом близких людей. Этот круг сложился в Невеле, потом с некоторыми изменениями сохранялся в Витебске и Ленинграде. Затем жизнь развела Бахтина с друзьями, большинство из которых рано ушли. В Кустанае и Саранске он оказался совсем один (жена здесь не могла ему помочь), но оставался главный собеседник – сам Михаил Михайлович. В последние 15 лет он снова мог общаться с новым кругом участников застольных бесед все с тем же обязательным курением. Но характер бесед уже был другим: Бахтина окружали не близкие по возрасту друзья, а люди гораздо более молодого поколения. А публичности, стремления передать свои идеи широкому кругу людей у Бахтина никогда не было. Конечно, надо учитывать и его многолетнюю болезнь.
Как вспоминают его ученики по Саранску, «посетители… неизменно находили Михаила Михайловича за письменным столом с открытой книгой или журналом».[138] Это было его главное рабочее место. Все остальное, включая педагогическую деятельность, вызывалось лишь необходимостью зарабатывать на жизнь. И дело не только во внешних обстоятельствах. В Саранске Бахтин много лет заведовал кафедрой, но эти функции явно ему не были интересны. Сам он говорил: «Я. официальщину терпеть не могу».[139] Бахтина трудно себе представить в области ученого-администратора, даже в области, не сводимой целиком к «официальщине», скажем, в качестве руководителя коллективного труда с планами, отчетами, распределением обязанностей и пр. И это при том, что ряд сочинений, вышедших из круга Бахтина, видимо, как раз создавался коллективом с Михаилом Михайловичем в роли руководителя. Но атмосфера была другая!
А Виноградов был публичным человеком. Ему всегда была нужна аудитория, но не всякая, а такая, которая могла бы его оценить должным образом. В вятской ссылке он не стал хлопотать о возможности преподавать в местном пединституте, это ему не было интересно. Но ему было важно доносить свои идеи до публики. Как исследователь Виноградов, пожалуй, был даже большим одиночкой, чем Бахтин: вокруг него никогда не было такого круга близких друзей, в спорах с которыми вырабатывалась истина, как вокруг Михаила Михайловича. В молодости у него были близкие друзья, но среди них не было филологов. С людьми своей профессии его связывали либо чисто деловые отношения, либо отношения учителя и ученика. Но зато он охотно брал на себя административные функции. Он много участвовал в коллективных трудах с формальным распределением обязанностей, сначала в качестве рядового сотрудника (Словарь Ушакова), а потом в качестве руководителя (Академическая грамматика). А с 40-х гг. – обязанности декана, директора института, академика-секретаря, главного редактора двух научных журналов и т. д. И в итоговой оценке деятельности Виноградова не меньшее место, чем научное творчество, занимает его научно-организаторская и общественная деятельность. Академический Институт русского языка заслуженно носит его имя.
Бахтин писал для себя и узкого круга друзей (и, может быть, для будущих поколений). В. В. Кожинов писал, что «не было у него ни грана тщеславия».[140] Вряд ли он был совсем лишен честолюбия, но это было внутреннее честолюбие, самоуважение. Недаром под конец жизни он считал ее неудавшейся как раз тогда, когда слава его, наконец, нашла. Но внешнего честолюбия он был лишен.
Любопытна его оценка В. В. Маяковского в беседе с Дувакиным: «И вот он ухватил, значит, номер этого журнала и буквально вьелся в напечатанные его стихи. И тоже как-то чувствовалось, что он смакует свои собственные стихи, смакует больше всего именно тот факт, что они напечатаны. Вот! Вот он напечатан! Одним словом, это на меня произвело очень плохое впечатление. Но ведь нужно сказать так: все это свойственно всем людям, да, но как-то от Маяковского, который все-таки был фигурой карнавальной, следовательно, стоящей выше всего этого, я бы скорей ждал известного презрения к костюму и к напечатанию его стихов. А тут прямо противоположное: как малень-кий человек, он счастлив тем, что вот его опубликовали, хотя он давным-давно был известным человеком и печатался».[141]
Отсюда хорошо известные особенности работы Бахтина. По воспоминаниям С. Г. Бочарова, «он сам говорил о незавершенности как стиле своей работы – незавершенности внутренней и внешней».[142] Тот же Бочаров констатирует, что от ученого остались в основном разрозненные фрагменты и заготовки к трудам, «которые были обречены не быть написанными».[143] Он же отмечает в другой публикации: «От Бахтина – разрозненные фрагменты и тогда, когда он полностью издан. Оба главных больших философских труда начала 20-х годов – обширные, но фрагменты».[144] Начало 20-хгг. – самое начало деятельности Бахтина, но то же самое и значительно позже. Ни один из его значитель-ных по обьему лингвистических текстов 50-х гг. не доведен до конца. Многие работы, к которым автор потерял интерес, вообще не сохранились.
Отсутствие публикаций Бахтина между 1930 и 1963 гг. (кроме статьи о покупательных способностях колхозников и двух газетных рецензий на спектакли), видимо, обьясняется не только внешними обстоятельствами. В его обстоятельствах другие вели себя иначе. И это не только Виноградов, но и, например, несоизмеримый по масштабу деятельности с Бахтиным или Виноградовым, но честный и знающий коллега Бахтина по Саранску Лев Михайлович Кессель; о нем см. специальную публикацию.[145] Он также попал в Саранский пединститут, имея «минус» (в отличие от Бахтина, он до того побывал и в лагере). И все годы жизни в Саранске он печатался в «Ученых записках» института. А Михаил Михайлович за четверть века издавался там один раз, причем уже на пенсии. Очевидно, что дело было не в невозможности публикации: у Бахтина не было желания и просто не было готовых текстов.