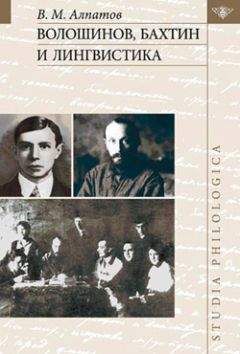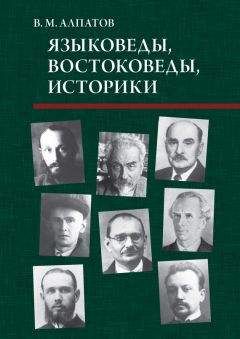А потом инициатива в публикациях исходила не от Бахтина, а от его молодых почитателей, более всего от В. В. Кожинова. Бахтин не сопротивлялся, но активности не проявлял. С. Г. Бочаров свиде-тельствует, что ученый был «довольно отрешен» от этих изданий.[146] И возможно, отсутствие у Бахтина интереса к завершенности своих текстов и к их выходу на читателя может дать и ключ (разумеется, лишь гипотетический) к проблеме авторства «спорных текстов», об этом будет сказано в следующем экскурсе.
И совсем иначе был устроен Виноградов, который вел себя так, как это «свойственно всем людям», по мнению Бахтина. Вот два факта из времен ссылки. Узнав из письма, что его долго задерживавшаяся в издательстве книга «Язык Пушкина», наконец, вышла в свет, он от радости и волнения уже не мог в этот день работать. Совсем как Маяковский! А это была уже девятая его книга и вторая книга за время ссылки. У него возникла идея написать монографию о стиле Гоголя, но так и не нашлось издательства, которое взялось бы ее издать. В результате книга не была написана, Виноградов занялся другими темами. Как профессионал с широким кругом интересов, он не имел какой-то одной «выстраданной темы» и готов был писать сразу о многом, отдавая приоритет сюжетам, которые имели шанс быть скорее опубликованными. Конечно, надо учитывать положение ссыльного, жившего лишь на издательские гонорары (вид заработка, недоступный для Бахтина в Кустанае), но очевидна и нацеленность на результат, а не на процесс научной деятельности. И научное наследие Виноградова совсем не такое, как у Бахтина: не фрагменты и заготовки, а книги, статьи, разделы в коллективных трудах. Большинство работ издано при жизни (и не только в благополучные, но и в самые трудные годы), а неопубликованные по разным причинам труды – в основном, вполне готовые к печати рукописи, сейчас большей частью уже увидевшие свет.
Многие, знавшие Виноградова в последние два десятилетия жизни, отмечают его неравнодушие к чинам и званиям, которыми он долго был обделен, но затем получил компенсацию. И еще одно различие. Бахтин упрекает Маяковского, кроме всего прочего, за отсутствие «презрения к костюму». Все мемуаристы отмечают пренебрежение к быту у Михаила Михайловича, равнодушие к материальной стороне жизни. Постоянно куривший, малоподвижный из-за отсутствия ноги Бахтин, судя по всему, был достаточно неряшлив. А Виктора Владимировича вспоминают как человека исключительно аккуратного, любившего хорошо одеться, собирателя антиквариата.
Еще более важное различие наблюдалось в общественном поведении; оно, конечно, было связано с предыдущими различиями. Сейчас многие склонны несомненное бахтинское изгойство и аутсайдер-ство обьяснять исключительно внешними причинами, давлением общественного строя. Однако думается, что немалую роль играли и многолетняя болезнь, и особенности характера Михаила Михайловича. Сопоставление его биографии с биографиями многих его современников, включая Виноградова, это подтверждает.
Уже установилось мнение о том, что неудача с публикацией статьи в журнале «Русский современник» окончательно показала Бахтину невозможность его легальной деятельности в советских условиях. Но все же одна-единственная неудача вряд ли могла значить столь много. Уже люди его круга вели себя иначе. Самый очевидный пример – П. Н. Медведев, которого не всегда печатали, но который всегда упорно боролся за право быть опубликованным и нередко это право реализовывал; это подробно описано в статье.[147] Биография Волошинова известна меньше, но несомненна его нацеленность на публикации во второй половине 20-х гг. (что случилось с ним в 30-е гг. – пока до конца не ясно). А Бахтину было и физически тяжело, и, главное, неинтересно обивать пороги в редакциях. Позже, как указал мне Н. А. Паньков, сохранилось несколько планов, проспектов предполагавшихся книг, заявок в издательства, относящихся и к ленинградским, и к кустанайским, и к савёловским годам. Однако при первых трудностях Бахтин быстро сдавался. Ничего похожего на активность Виноградова: он добился того, что почти все написанное им в ссылке еще в довоенные годы вышло в свет.
Другая легенда о Бахтине – его полная отверженность после 1928 г., целиком будто бы обусловленная внешними обстоятельствами. Надо сказать, что ее распространению способствовал позже сам Михаил Михайлович. Он, например, говорил Дувакину, что не хлопотал о снятии «минуса», поскольку «это в то время было абсолютно бесполезно».[148] Но сравним его биографию с биографиями «подельников». Не все из них, правда, мне известны, но вот три достаточно известных человека: филолог-классик А. В. Болдырев, друг Александра Блока Е. П. Иванов, востоковед и византинист Н. В. Пигулевская. Все трое к середине 30-х гг. добились возвращения в Ленинград. Двоим первым это, однако, может быть, укоротило жизнь, оборвавшуюся в блокаду. А Пигулевская (в отличие от Бахтина – активный участник кружка А. А. Мейера) жила еще долго, работала активно, а в 1946 г. (задолго до реабилитации) стала членом-корреспондентом АН СССР.
В том же 1946 г. академиком стал и Виноградов. Его последующие звания и награды известны. Кроме прочего, он был депутатом Верховного Совета РСФСР (от Горького, города, где он за семнад-цать лет до того провел несколько дней в тюрьме), а за упомянутую книгу «Русский язык» получил Сталинскую премию 1-й степени. Изгнанная отовсюду в 1950 г. О. М. Фрейденберг годом позже прислала Виноградову поздравление. В нем она выражала радость по поводу того, что книга, ранее обьявлявшаяся «космополитической», получила Сталинскую премию. А ведь реабилитирован Виноградов будет еще лишь через тринадцать лет, всего на три года раньше Бахтина.
Безусловно, погруженный в свой внутренний мир и лишенный социальной активности Бахтин мало что делал для возвращения в Ленинград (где, кстати, до войны жили его мать и сестры, о которых мы очень мало знаем). После окончания срока ссылки он еще два года жил в Кустанае, сказав впоследствии Дувакину о причинах: «Чего мне менять один Кустанай на другой Кустанай».[149] Позже, в 1937 г. он пытался устроиться в Ленинграде или в Москве, но что-то не получалось. Возможную причину сам ученый назвал Дува-кину: «Вообще я враг вот этой всякой… активности и переписки, бумажной активности».[150] Потом Бахтин все же переехал на «101-й километр». Иногда напоминал о себе, выступая в ИМЛИ, делая иногда робкие попытки печататься, но активности по-прежнему не было. Защитить диссертацию его во многом уговорили оставшиеся старые друзья, прежде всего М. В. Юдина. А потом Михаила Михайловича, в общем, устроил Саранск, где во второй приезд его всерьез не преследовали и где он мог спокойно общаться с листом бумаги и книгами (которых, правда, не всегда хватало).
Очень показательно, что смерть Сталина здесь ничего не изменила. Упомянутый выше Л. М. Кессель уже в 1954 г. покинул Саранск и возвратился в Москву. А Бахтин остался в Саранске еще на долгие годы (конечно, надо учитывать, что к тому времени он потерял всех родственников в Ленинграде и Москве). Вероятно, он остался бы там навсегда, если бы не активность его последователей.
И насколько иначе вел себя Виноградов! Весь период ссылки ему хотелось только одного: поскорее вырваться из захолустья, несмотря даже на то что в Вятке, ставшей как раз тогда Кировом, он очень продуктивно работал. Шли хлопоты через жену и учеников. Как рассказывала мне Надежда Матвеевна, помогли В. В. Вересаев и М. А. Цявловский, убедившие высокое начальство в необходимости участия Виктора Владимировича в подготовке Пушкинского юбилея. Три года ссылки сократили до двух. Виноградов, как и Бахтин, мог остаться на прежнем месте, освободившись лишь от обязанности отмечаться в НКВД, но для него это было немыслимо. Получив документ об окончании ссылки, он немедленно уехал из Кирова. Имея «минус», Виноградов прописался на «101-м километре» (в Можайске), но фактически без прописки жил в Москве у жены. У черного хода висело пальто на случай, если нагрянет милиция.[151] В Москве удалось получить работу, но в конце 1938 г. последовало увольнение из Московского городского пединститута, причем ученому «ставилось в вину что-то новое» по сравнению с делом 1934 г..[152] История, аналогичная травле Бахтина в Саранске в 1937 г., где явно его спас лишь арест ректора. В начале 1939 г., после снятия Н. И. Ежова, друзья уговорили Виноградова написать вождю. Письмо Виноградова с просьбой о московской прописке и положительная резолюция Сталина и нескольких членов Политбюро сейчас опубликованы[153] (тем же образом тогда получил прописку и другой репрессированный в 1934 г. видный языковед А. М. Селищев[154]). Потом в жизни Виноградова была еще высылка из Москвы в Тобольск в начале войны. Лишь в 1943 г. он окончательно вернулся в Москву.