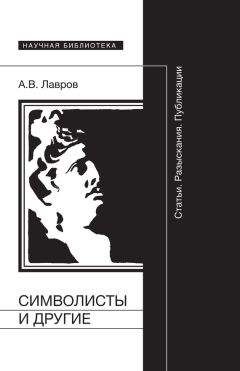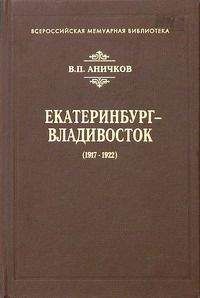10 – 28 февр. 1901.
Иван Ореус.[198]
Одним из важнейших источников для осмысления творческой личности Коневского являются его записные книжки; в них аккумулированы основные исходные импульсы для многообразных последующих вариаций самовыражения в стихах и прозе. Сохранилось 11 записных книжек за 1893–1900 гг., в них занесены черновые автографы стихотворений, дневниковые записи, заметки информационного и регистрационного характера, тематические описательные и аналитические фрагменты. Последние представляют особый интерес; созерцательный характер поэтической индивидуальности Коневского нагляднее всего раскрывается в зафиксированных им описаниях городов и местностей, во впечатлениях и рефлексиях, порожденных впервые увиденными различными ликами земли. В книге Коневского «Мечты и Думы» произведения этого рода скомпонованы в два раздела – «Видения странствий» и «Умозрения странствий»; входящие в них стихотворения и прозаические этюды написаны по следам двух путешествий по Европе, предпринятых автором в 1897 и 1898 гг. Ближайший аналог этим текстам правомерно усмотреть в ландшафтных медитациях европейских поэтов-романтиков; преемственную связь с ними подчеркивает сам Коневской, включая в виде эпиграфов к разделам цитаты из Вордсворта, Шелли и Китса. Свои «видения» и «умозрения» Коневской начал фиксировать, еще будучи гимназистом; уже во 2-й записной книжке (лето 1894 или 1895 г.) содержится фрагмент, написанный под впечатлением от Гельсингфорса («Одиночное путешествие в Гельсингфорс (“чтоб задать форс”)»[199]):
Гельсингфорс – в полном смысле слова дышащий и проникнутый полной жизнью город. Живость эта – не грубая и грязная хлопотливость промышленных и торговых приморских городов, вроде Марсели, Одессы, Ливерпуля, не та живость, которая воплощает в себе всю безобразную и уродливую сторону современной культуры. Нет, жизнь Гельсингфорса кажется мне проникнутой какой-то светлой, но возвышенной и деятельной жизнерадостью, которая прежде всего не может существовать без красоты. Куда ни ступишь в Гельсингфорсе, всюду – красота и изящество, так что просто загляденье, любо-дорого смотреть. Чувствуется, что главный нерв жизни города – служение музам в науке и искусстве, а промышленность и торговля лишь второстепенные отправления его. Я не видел почти ни одного здания в Гельсингфорсе, которое не носило бы на себе оттенок изящества, чего-то с любовью отделанного и отточенного. Этой любви гельсингфорсцев к созданию красивой обстановки удивительно благоприятствует и естественное его местоположение, представляющее собою чудесное сочетание красот морской и земной природы. Стиль искусственной красоты в Гельсингфорсе скорее всего приближается к древнему классическому, а иногда – ренессансу.[200] От этого и общий колорит города близко роднится с колоритом древнегреческого приморского города, однако с довольно резко обозначенным оттенком чего-то более сложного, горячего и страстного, даже таинственного, привнесенного новыми веками. Во всем этом стройном благообразии гельсингфорсской физиономии чувствуется, однако, тот мощный порыв к неведомой красоте, который в свою очередь неведом был древнему миру; этот ненасытный порыв сказывается, может быть, даже именно в том многообразии и сочетании различных стилей, которое усвоила себе современная архитектура вообще, и гельсингфорсская – в частности: то на тех, то на других путях, изыскиваемых с неутомимой силой фантазии и изобретательности, современное искусство усиливается явить миру свой чудесный идеал, и… до сих пор все не может удовлетвориться ею изысканным. Вот эта-то беспредельность искания в современном искусстве чудится мне с большой ясностью и в красоте гельсингфорсских строений. Но все же, любуясь на них, современная душа, жаждущая красоты, – как художника, так и простого платонического любителя ее, – может хотя до некоторой степени найти себе отраду и утоление после мучительного жгучего раздражения, которое должна возбудить в ней гнусная облупленность, топорность и казенщина, царящая в строениях даже столиц современного мира, а именно – в большинстве зданий «распрекрасного» Петербурга.[201]
(Негативное отношение к своему родному городу, выраженное в последних строках приведенного фрагмента, Коневской сохранил и в последующие годы.[202])
Уже в этом фрагменте сказывается характерная особенность мировидения Коневского – отсутствие локализованных, дискретных описаний и впечатлений (от отдельных зданий, улиц, памятников и т. п.) и обобщенный характер наблюдений и размышлений; все частности и конкретные детали, фиксируемые воспринимающим сознанием, суммируются в некий единый образ, который воссоздается посредством дефиниций, позволяющих сквозь совокупность внешних обликов уловить и осязать некую абстрактную историко-культурную модель. От непосредственных восприятий мысль Коневского неизменно устремляется к наблюдениям историософского характера, к размышлениям, уводящим в сферы этнического, национального и культурного генезиса. Несколько таких фрагментов, в значительной части извлеченных из записных книжек, составили в посмертном издании сочинений Коневского разделы «Русь (Из летописи странствий)» и «Мысли и замечания».[203] Целый ряд путевых заметок, содержащихся в записных книжках, Коневской включил в «Видения странствий» и «Умозрения странствий», иногда лишь с небольшими стилевыми и смысловыми изменениями и дополнениями, иногда в переработанном и более развернутом виде. Некоторые весьма содержательные фрагменты, однако, не были им доведены до печати. Так, записи, относящиеся к летнему путешествию 1897 г. («Летопись странствия. I. 4 – 28 июня»[204]) и имеющие поначалу отрывочный регистрационный характер («Переезд Петроград – Варшава», «Луга», «Псков», «Вильна», «Гродно»), включают фрагмент, суммирующий первые впечатления от впервые увиденных краев, которые служат в то же время своего рода трамплином для сугубо умозрительных построений:[205]
Варшава. Западной Европой пахнуло, буквально – пахнуло; на улицах почувствовался европейский запах, составленный из неуловимых оттенков. Дома тоже слажены и отделаны так, что чувствуется – здесь народ, у которого природная стихия – строительство, мастерство, рукомесленничество; в то время как даже в Петербурге дома лишь в единичных случаях не отличаются[206] хоть чуть-чуть чем-то неуклюжим и аляповатым. ‹…›
Польша – страна зеленовато-белая, страна бледно-зеленых ив и тополей, свесившихся над мутно-белыми реками.
Висла – река желтая – бело-желтая.
Литва – страна темно-зеленая и желтая, страна свежих, приветливых дубов, кленов, вязов, кудрявых лиственных лесов ‹…› С ними хорошо гармонируют сочные и пушистые звери – медведи, куницы. Она вольно и тихо переливается в угрюмое, серовато-бурое Полесье, страну мутей, гатей, тощих и длинных сосен.
Варшава – город грациозный, добродушно-щегольской, игривый, влюбчивый и легкомысленный,[207] цвета побуревшего золота. Удаль поляка – его щегольство; великорусской неистовой удали в нем гораздо меньше, или, по крайней мере, нет у него в ней той сиволапости, которая сказалась у нас в кулачных боях с рукавицами среди снеговых сугробов или охоте на медведей с рогатиной. Польская натура готова скорее усвоить себе тонкое рыцарское копье и шпагу, ловкость и отвагу, славянская же беззаветная удаль сказалась у ней преимущественно в залихватских танцах, как мазурка. У нас гусарский пошиб воплотил в себе черты польской, очень родственной ей венгерской, и великорусской удали. В поляках также бесконечно меньше также (sic! – А. Л.) русской тоски и недоумевающего, растерянного искания, кроткого и равнодушно-грустного русского скептицизма, столь отличного от французского – мальчишески-задорного и самотешащегося скептицизма.
В «Видения странствий» и «Умозрения странствий» Коневской включил те описания и рассуждения, которые или были индифферентны в оценках по отношению к объектам восприятия, или выражали приподнятое эмоциональное настроение путешественника, восхищавшегося и вдохновлявшегося увиденным. Эмоции и аттестации критического и порой негативного толка не были допущены автором в его «Мечты и Думы». Тем не менее они возникали в ходе путешествий по Европе и нашли свое отражение в записных книжках. Безусловно, Коневской считался с тем, что определяется современным словечком «политкорректность», когда решил воздержаться от включения в книгу, например, записи, сделанной в Базеле в июне 1898 г.:[208]