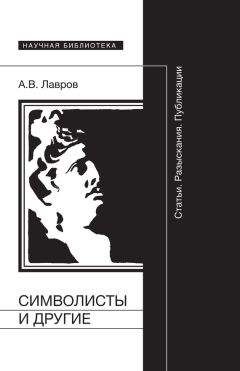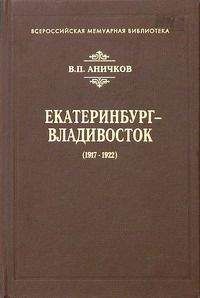Остается признать, что большое количество документальных источников для исследования жизненного пути и творчества Коневского утрачено – и, скорее всего, безвозвратно. Тем не менее значительная часть архива Коневского, и прежде всего его творческие рукописи и предварительные заготовки к ним, сохранилась. Некоторые из этих произведений были напечатаны вскоре после гибели Коневского и вошли в его посмертное собрание, некоторые введены в читательский оборот в новейшее время, однако многочисленные рукописи (философские этюды, аналитические характеристики писателей, путевые заметки, записи дневникового характера и т. д.) остаются неизданными. Те же тексты Коневского, которые были опубликованы в начале XX века, не всегда с необходимой точностью воспроизводят оригинал: сокращения и редакторская правка рукописи считались в ходе подготовки этих публикаций допустимыми. Наглядный пример неаутентичного воспроизведения текста – публикация статьи «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины», которую Коневской незадолго до смерти представил в альманах «Северные цветы»,[186] где она и появилась (и в той же редакции перепечатана в новейшем издании сочинений Коневского).[187] Сравнение опубликованной версии с беловым автографом статьи[188] (который, видимо, и был предложен автором для альманаха) свидетельствует о том, что с текстом Коневского в данном случае обошлись крайне своевольно: сняты начало и конец статьи, изъяты несколько фрагментов из ее середины, опущен ряд стихотворных цитат. Эти сокращения коснулись отнюдь не длиннот или необязательных деталей и мелочей, но вполне концептуальных развернутых фрагментов. Как пример приведем изъятую заключительную часть статьи, в которой анализ поэзии Щербины дополняется параллелями с творчеством А. Н. Майкова:
Чтобы довершить характеристику мировоззрения Щербины, которое, как видно было, вскормлено было пластикой и образностью классической древности в их цельном и точном виде, а религию и метафизику ее обновляла в осложненном виде германского умозрения, остается отметить одну более частную, но чрезвычайно знаменательную черту. Нельзя не обратить внимания, при изучении всего объема стихотворений этого служителя т<ак> н<азываемой> «античности», что в этой культуре его влекут и очаровывают только те периоды ее, которые созданы были вполне обособленным еще характером эллинских племен, а все творчество Рима не возбуждает в нем, по-видимому, никакого участия. Но и уединенно эллинский быт и строй чувств и мыслей внушил его поэзии вполне достойные его и прочувствованные мотивы только характером своей пластики и полусвященной лирики, какая находила свое выражение в дифирамбах, одах, гимнах и трагических хорах. Поверхностным и незначительным является все, в чем Щербина задумывает воспроизводить тон идиллии, этого наиболее отличительного для александрийских периодов рода древней поэзии. Прямо постыдным и оскорбительным для памяти поэта художественным и мыслительным недоразумением представляются его сатиры и эпиграммы, этот особенно свойственный латинцам поэтический склад, отдел, занимающий в собрании его сочинений даже немалые размеры, но почти неудобочитаемый.
Между тем, если взглянуть на творчество другого русского стихотворца, славящегося как воспроизводитель классической древности, Ап. Н. Майкова, бываешь поражен тем внушительным преобладанием, каким пользуется в его кругозоре культура и гражданство Рима и вообще Италии. Один из краеугольных камней его поэтического творчества – александринские стихи, прямо дающие полную картину римского племени и общественности (Древний Рим). Что же касается до его отношения к самобытной Элладе, то нельзя не вспомнить на этот счет метко обобщающего суждения со стороны такого понимателя классического мира, как проф. Зелинский,[189] о том, что из эллинской среды Майковым были ощущены только картины александрийских идилликов.[190] От себя прибавим, что тем же задушевным чутьем идиллии сложился тот отдел поэзии Майкова, который один может сравниться с его прославлениями римского могущества – цикл детских настроений, обвеянных обстановкой русской деревни (во главе их – такая драгоценность его творчества, как идиллия: «Рыбная Ловля»).
Замечательно, для проверки майковского отношения к глубочайшим замыслам эллинской религии, его изображение полуденного сна «великого Пана».[191] Этот таинственный бог и Майкову внушает, правда, чрезвычайно чуткое и вещее внимание полуденной тишины, но с начала до конца его напев не призывает ни к чему, как только к тому, чтобы не был возмущен безмятежный глубокий сон великого жизнедавца. Можно сказать, что для Майкова Пан есть лишь верховный гений-хранитель детски мирного благоденствия, его освящение. Между тем, в стихах Щербины не тот ли самый бог Целокупности явственно чувствуется в дуновениях приближающихся бурь, «в лоне природы, в борьбе и волненьях, в страстных вакхических мира стремленьях»?[192] Не рисуется ли он воображению в трагических восторгах этого поэта, как олицетворенная священная энергия всего мира? Он же – и властитель вечного вешнего блаженства, он «сладко дремлет на солнце»,[193] но это уже вовсе не та беспечальная, туманно грезящаяся дремота среди камышей, какую представлял себе Майков, а покой всезрящий, отмеченный великолепным героическим сознанием своей внутренней мощи.
Значит, по-видимому, Майкову наиболее понятны и близки пребыли в «древнем мире» образы его вполне внешних прелестей и гармоний. Выражениями его нежной думы показались несложные позднегреческие идиллии, которые при том представились автору даже с большей жизненностью, когда им пересажены были на русскую почву. А гордая, жадная и творческая страсть эллино-римских народов виделась ему ни в чем, как в только извне движимом государственном управлении и построении римской власти. Он задивовался только на этот образ гармонии огромной, но мертвой, механической, которая содержалась в единстве лишь мастерским рассудочным распределением общественных отправлений и сосредоточивающим самовластием высокомерных, замкнутых в себе воль. Мимо внимания его прошла та гармония, то кровное общение душ, которому далеко было до сплочивающей, сколачивающей железом властительности Рима, но которое в недолговременном своем действии проникала таким обаянием небольшие городские общины эллинов и сходбища их на торжественных празднествах – обрядовых зрелищах и играх.
Щербина с задушевной любовью вслушался единственно в благоговейные строфы празднественных од и тайнодейственных гимнов и в величавые размеры трагических хоров: эти звуки слышались ему и за вдохновенными размышлениями философов, и за великолепием мраморных изваяний. В них чувствовалось ему истое объединение человеческих и мировых лиц, перед которым представлялось ничтожным изящество и величие Рима.
И так не был ли им сделан хоть шаг в сторону той цели, о которой упомянуто было проф. Зелинским в том же рассуждении о Майкове? Там отмечено было, что Майков не может быть назван деятелем того движения, которое должно наступить и которому принадлежит имя «Славянского Возрождения Древности» подобно тому, как XVI век назван Итальянским возрождением, век Гёте и Шиллера Германским возрождением классического мира.[194] Но выдающуюся характеристику этого движения профессор-классик признавал в книге полуславянина[195] Ницше о древнегреческой драме: «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik» – книге, по выражению Ф. Ф. Зелинского – «чудной, истинно вакхической».[196] Вообще, глубокое понимание этой стороны древнегреческого духа, которая обнаруживалась с наибольшей полнотой в древнем культе Диониса-Вакха, которая, по новым исследованиям, и сложила хоровые части трагедий, ядро их действия, тот же знаток древности признавал существенным признаком, который должен принадлежать новому славянскому восприятию древности. И не присуще ли это свойство в высокой степени всему настроению творчества Щербины, для которого весь мир людской и природный представлялся «бегом вакхического хора», и средь его «кликов, плясок и песен»[197] поэт переживал нескончаемое самоутопление и самовозрождение?
10 – 28 февр. 1901.
Иван Ореус.[198]
Одним из важнейших источников для осмысления творческой личности Коневского являются его записные книжки; в них аккумулированы основные исходные импульсы для многообразных последующих вариаций самовыражения в стихах и прозе. Сохранилось 11 записных книжек за 1893–1900 гг., в них занесены черновые автографы стихотворений, дневниковые записи, заметки информационного и регистрационного характера, тематические описательные и аналитические фрагменты. Последние представляют особый интерес; созерцательный характер поэтической индивидуальности Коневского нагляднее всего раскрывается в зафиксированных им описаниях городов и местностей, во впечатлениях и рефлексиях, порожденных впервые увиденными различными ликами земли. В книге Коневского «Мечты и Думы» произведения этого рода скомпонованы в два раздела – «Видения странствий» и «Умозрения странствий»; входящие в них стихотворения и прозаические этюды написаны по следам двух путешествий по Европе, предпринятых автором в 1897 и 1898 гг. Ближайший аналог этим текстам правомерно усмотреть в ландшафтных медитациях европейских поэтов-романтиков; преемственную связь с ними подчеркивает сам Коневской, включая в виде эпиграфов к разделам цитаты из Вордсворта, Шелли и Китса. Свои «видения» и «умозрения» Коневской начал фиксировать, еще будучи гимназистом; уже во 2-й записной книжке (лето 1894 или 1895 г.) содержится фрагмент, написанный под впечатлением от Гельсингфорса («Одиночное путешествие в Гельсингфорс (“чтоб задать форс”)»[199]):