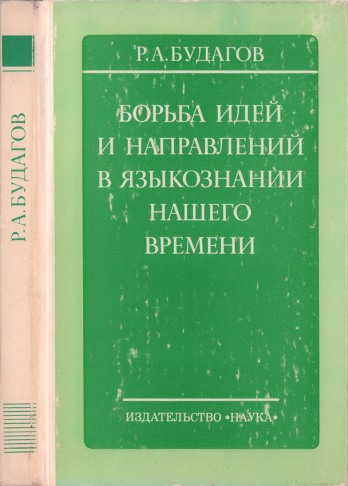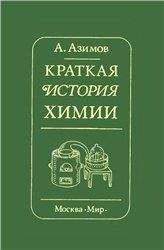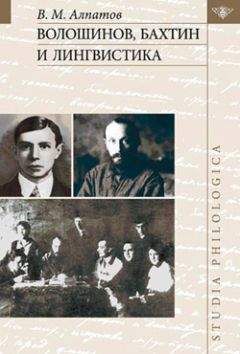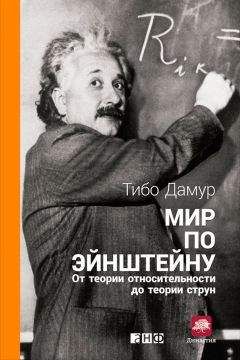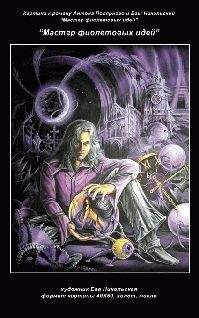ʽгоршокʼ до сих пор живут во многих романских диалектах, в частности, в Италии, в неаполитанском диалекте, где testa ʽваза для цветовʼ. В романских языках и диалектах находят свое отражение и caput, и testa. В румынском и каталанском cap ʽголоваʼ. В испанском и португальском cabo весьма полисемантично, но включает также значение
глава,
начальник. Понятие
голова здесь передается не только с помощью testa, но и с помощью образований, производных от caput (порт. cabeça ʽголоваʼ). Во французском tête ʽголоваʼ, но chef (от caput) ʽглаваʼ, ʽначальникʼ (ср. в аналогичном осмыслении
шеф в русском языке). Если посмотреть на карту распространения caput и testa в современных итальянских диалектах, то можно обнаружить своеобразную чересполосицу: зоны одного слова чередуются с зонами другого слова [130].
Существительные caput и testa и разделяют романские языки, и сближают их одновременно. Если не считаться с диалектами, которые часто сохраняют архаичную лексику, то в литературных романских языках нередко сосуществуют оба эти слова. В этих случаях возникает дифференциация между ними. Процесс растянулся на многие столетия. Во французском языке, в частности, где tête ʽголоваʼ стало основным наименованием этой части человеческого тела, еще у Ронсара и Рабле в XVI столетии в аналогичной функции выступало и chef (лат. caput). Чувственный образ способствовал семантическому переходу от глиняного горшка к голове. Вместе с тем процесс подобного перехода оказался достаточно сложным: он прошел ряд этапов и в некотором отношении еще не завершился и в наше время, в особенности в тех языках, где бытуют оба слова, семантически или стилистически дифференцированные.
Такими материалами (их легко увеличить) может быть подкреплено ранее выдвинутое теоретическое положение: чем более отвлеченным является понятие, требующее наименования, тем большее значение для него приобретает чувственная оболочка слова. Говорящие и пишущие люди обычно не замечают подобных процессов, но исторически аналогичные процессы широко пронизывают лексику самых разнообразных языков.
Все эти важнейшие диахронные закономерности в лексике остаются в стороне при подходе к языку лишь как к знаковой системе. В этом плане ограниченность знакового понимания природы языка не может не бросаться в глаза. Разумеется, в ходе изучения материала ученый может для тех или иных целей отвлекать знак от его значения. Но, как справедливо заметил один из исследователей этого вопроса, необходимо строго различать две, совершенно несходные операции: знаки, временно рассматриваемые в отвлечении от их значений, и знаки, рассматриваемые как вовсе не имеющие никаких значений [131]. Эти концепции действительно оказываются несовместимыми, теоретически противоположными.
Если устранить всевозможные «промежуточные доктрины», как правило эклектические, то в лингвистике нашей эпохи бытуют и борются друг с другом две основные концепции: для одной из них язык – это только система обозначений, для другой, язык выступает не только в этой своей функции, но и в функции отражения действительности, в функции, тесно связанной с общим историческим процессом познания. Вторая концепция не просто дополняет первую, а принципиально иначе истолковывает функции языка, принципиально иначе понимает знаки в их взаимодействии со значениями и вещами (явлениями). Язык – это не только формальная система обозначений, но прежде всего – культурное завоевание и достояние каждого народа, располагающего своей национальной историей. Возможности национальных языков – это возможности принципиально иных масштабов сравнительно с возможностями кодов, создаваемых для тех или иных, чисто технических целей.
Глава третья.
Теория относительности и материал национальных языков
Известно, что в XX в. получила развитие теория относительности и было, в частности, открыто свойство многих вещей менять свою природу под воздействием других вещей, под воздействием окружения, в котором обычно находятся вещи. И сразу же возник острый теоретический вопрос о том, является ли подобная относительность самих вещей частичной или она приобретает свойства относительности абсолютной, и тогда нельзя говорить о каких-то объективных свойствах вещей, а следует видеть в самих вещах лишь их относительные, всегда преходящие особенности. Разумеется, теория относительности оказалась гораздо шире, она не сводилась к решению только этого вопроса (ее специальные проблемы касались прежде всего физики), но и этот вопрос предстал во всей своей значительности и теоретической остроте.
Сразу же оформились две противоположные концепции истолкования понятия об относительности, во многих планах ставшие непримиримыми. В последующих строках я попытаюсь показать, как борьба этих противоположных доктрин отразилась в науке о языке и какие выводы для теории и практики изучения самих языков были сделаны различными учеными.
Известно, что теория относительности в первом варианте была сформулирована А. Эйнштейном в 1905 г., а в 1955 г., когда ее создатель умер, ученый мир отмечал 50-летие этой теории [132]. Теория относительности сразу же получила самые различные истолкования в различных научных и философских школах. По словам одного из крупнейших физиков-теоретиков, А. Эйнштейн неоднократно подчеркивал:
«С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю» [133].
Этими словами А. Эйнштейн хотел показать органическую связь, существующую между предметами и их отношениями: математика могут не интересовать предметы, он направляет свое внимание прежде всего на отношения между предметами, тогда как физику не безразличны сами предметы. Именно эту мысль развивает сподвижник Эйнштейна физик А. Зоммерфельд:
«Не относительность понятий длины и длительности является для Эйнштейна главным, а независимость законов природы… от точки зрения наблюдателя» [134].
Об этом же сообщает и французский ученый П. Кудерк в своей книге о теории относительности:
«Эта теория изгнала из науки фальшивые абсолюты, но она же открыла и другие, более достоверные истины» [135].
Глубокое истолкование философского значения теории относительности дал еще в начале нашего столетия В.И. Ленин, прежде всего в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909 г.). Однако с самого начала теория относительности расценивалась и с совершенно других теоретических позиций, представители которых утверждали, что будто бы новая теория доказала полную и абсолютную относительность всех вещей и всех понятий. А это уже означало, что ни о каких объективных свойствах вещей теперь будто бы не может быть и речи. Философскую несостоятельность этой последней концепции точно и убедительно показал в только что упомянутой книге В.И. Ленин. Позднее об этом писали многие советские философы. Я же попытаюсь продемонстрировать лингвистический аспект борьбы разных осмыслений самих понятий об отношении и об относительности.
Известная парадоксальность теории относительности заключается в том, что, как подчеркивают материалисты, это «величайшее открытие XX в.» показало не относительность «всего сущего», а объективность «всего сущего», необходимость его изучения во