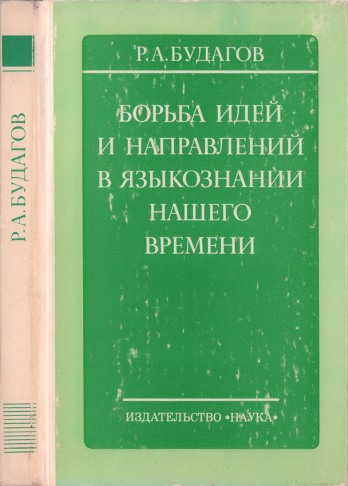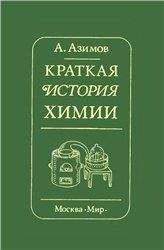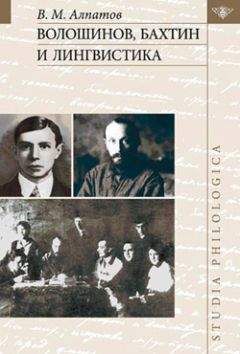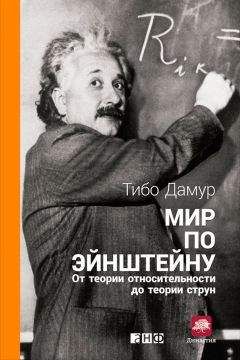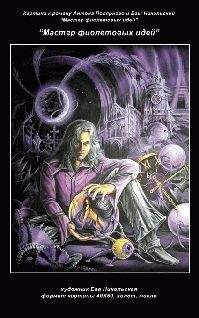весьма интересно, что некоторые зарубежные и отечественные теоретики нашего времени стали повторять положения, сформулированные в русской научной школе «Общества по изучению поэтического языка» еще в 20-е годы [146].
«Литературное произведение, – писал, например, в 1921 г. В.Б. Шкловский, – есть чистая форма: оно не есть вещь, не есть материал, а отношения материалов. Безразличен масштаб произведения… Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню – равны между собой» [147].
Даже если учесть стремление молодого тогда исследователя огорошить своих читателей («отсюда» кошка и камень) с помощью невероятного парадокса (этой страшной болезнью парадокса теперь страдают и некоторые более зрелые авторы), все же мысль книги ясна: изучаться должны только отношения, ради самих этих отношений. Как мы только что видели, аналогичный тезис через 30 лет стали защищать Л. Ельмслев и его последователи применительно уже к языковому материалу (не элементы языка, а лишь – только, исключительно – отношения между ними).
Проходит 10 – 15 лет и в нашем отечественном издании 1962 г. в тезисах одного из докладов читаем:
«Мысль о литературном произведении, как не материале, а отношении материалов… соответствует общепринятым в лингвистике со времен Соссюра представлениям о системе» [148].
Здесь вопрос ставится еще более категорически. Авторы этого тезиса стремятся создать впечатление, что «со времен Соссюра» вопрос о системе, которой будто бы совершенно безразличны элементы, ее образующими (материя языка), давно решен, причем решен однозначно. Авторы приведенного утверждения хотят лишь распространить этот, с их точки зрения бесспорный, тезис и на науку о литературе. Между тем в действительности все обстоит совсем иначе. И вокруг истолкования лингвистикой системы, будто бы лишенной всякого материального содержания, со времен Соссюра идет такая же острая теоретическая борьба, как и вокруг истолкования системы литературного произведения.
Еще до рождения теории относительности А. Эйнштейна (1905 г.) философское обоснование идеи относительности на рубеже нашего века стремился дать немецкий математик и философ, один из создателей феноменологии Э. Гуссерль (1859 – 1938). Он много сделал для построения науки о самой науке, для так называемого наукоученья. Уже в своих «Логических исследованиях» Гуссерль строго противопоставил естественнонаучное знание, как знание низшего уровня, и знание истинное (философское), как знание высшего уровня. В сфере этого высшего знания категория отношения выступает у Гуссерля как категория главная, центральная, определяющая построение самого подобного знания [149].
Хотя разработка теории абстрактного знания в начале нашего века имела большое теоретическое значение, но уже тогда возникала опасность одностороннего противопоставления «науки вообще» и материала каждой конкретной науки. В дальнейшем эта опасность стала еще более реальной у многочисленных последователей Гуссерля в разных странах. И здесь стали оформляться две методологически противоположные теории – теория частичной релятивности (при понимании объективности существования материи каждой науки) и теория абсолютной релятивности (при отрицании объективных свойств самой материи). Разумеется, обе эти теории не всегда находились под непосредственным воздействием гуссерлианства, но настойчиво они стали пробивать себе дорогу с начала нашего столетия (в зародыше их можно обнаружить и раньше).
В 1907 г., рецензируя книгу В. Чернышева («Законы и правила русского произношения»), И.А. Бодуэн де Куртенэ писал:
«Нельзя говорить, что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них переходит. Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная психическая связь и они друг друга обусловливают… Но с одинаковым правом мы можем говорить, что форма вода „переходит“ в форму воду, как и, наоборот, форма воду – в форму вода» [150].
При всей своей внешней убедительности, это заключение и теоретически, и практически безусловно ошибочно.
Разумеется, перечисленные формы, как и им подобные, никуда не «переходят» в школьном смысле этого слова. Они действительно сосуществуют в языке и взаимодействуют друг с другом. Но всякий человек, для которого русский язык является родным, всегда скажет (и это очень легко проверить экспериментально), что форма вода является основной, как бы исходной, номинативной, определяющей, а форма воду – формой зависимой, производной, несвободной, семантически и грамматически связанной. Увидев, например, воду в чашке, мы можем воскликнуть вода, но в этой же ситуации нельзя сказать воду, чтобы затем не последовало: «что воду?», «что вы хотите сказать?» и т.д.
Будучи представителем формально-психологического направления в русском языкознании, Бодуэн де Куртенэ подчеркивал лишь общую связь грамматических форм, но он проходил мимо другой важнейшей грамматической проблемы – проблемы грамматического значения. В свете этой последней вода в современном русском языке выступает в иной функции, чем воду. Теория абсолютной относительности выравнивает языковые формы, семантически и функционально совсем неравные. Любопытно, что подобные утверждения были бы невозможны у тех лингвистов, которые умеют видеть в грамматике не только ее формы (это само по себе совершенно необходимо), но и ее грамматические значения (что само по себе тоже совершенно необходимо) [151].
Во всех индоевропейских языках противопоставление единственного и множественного чисел действительно обусловлено самой необходимостью передавать с помощью грамматики представление об одном предмете (явлении, понятии) и представление о многих предметах (явлениях, понятиях). Противопоставляя стол и столы, животное и животные, наука и науки, говорящие на русском языке люди действительно передают грамматическими средствами представление об единственном и множественном числах. Но вот сторонники абсолютной относительности возражают: они подчеркивают, что словосочетания типа пара саней, много колье, обилие крови оказываются как бы вне категории числа. Следует вывод: в грамматике все относительно и ни о каком общем значении категории числа говорить будто бы вовсе нельзя.
Так возникла широко распространенная и в советском, и в зарубежном языкознании критика общих значений в грамматике [152]. Как мне представляется, отрицание общих (или основных) значений в грамматике ошибочно и теоретически, и практически. Никто не будет спорить с тем, что в приведенных сочетаниях типа обилие крови или много колье категория числа не выражена так отчетливо, как в сочетаниях типа стол – столы или животное – животные. Но сила грамматических обобщений как раз и заключается в том, что она дает возможность грамматике выделять типичное и характерное от менее типичного и менее характерного. В русском языке, несмотря на наличие сочетаний образца обилие крови, где противопоставление единичности – множественности отступает на задний план, все же именно это противопоставление внутри грамматической категории числа остается типичным и характерным не только для русского, но и для многих других языков нашей эпохи.
Что касается всевозможных и нередко многочисленных исключений и осложнений, то они должны тщательно