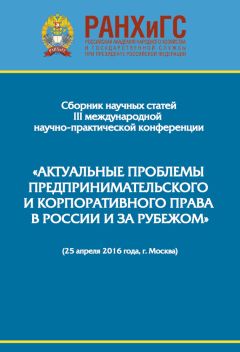314
См. у Дж. Драммонда в «The Phenomenology of the Noema»: не лучше ли «совершить то, что John Braugh с хирургической точностью назвал „ноэмоктомией“, навсегда удалив из тела нашего феноменологического пациента этот онтологически и эпистемологически бесполезный аппендикс» (цит. по: Мотрошилова, с. 418).
315
«… объективное (в кьеркегоровском смысле) мышление – мышление здравого смысла, мышление науки… в итоге приводит нас к утрате контакта с перцептивным опытом, являясь между тем его следствием и естественным продолжением… Мы не можем удовлетвориться этой альтернативой: либо ничего не включать в субъект, либо ничего не включать в объект. Необходимо отыскать источник объекта в самой сердцевине нашего опыта… Мыувидим, что собственное тело ускользает – в той же науке – от режима, который ему хотят навязать. И поскольку генезис объективного тела – это всего лишь момент в конституировании объекта, покидая объективный мир, тело увлекает за собой интенциональные нити, которые связывают его с его окружением, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта, так и воспринимаемый мир» (Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 106–107). Тема соотношения телесности и смысла разрабатывалась – в своем особом ракурсе – и Бахтиным. См., в частности, из АГ: «Самые смутные органические ощущения как-то вплетены <в> ценностно-смысловой контекст моей жизни, занимают в нем место, начинают значить в нем, и в них я как-то устанавливаю себя по отношению к ценностям, занимаю позицию».
316
В аналогичном, как представляется, направлении (в сторону ноэтического смысла) может быть понята и топологическая теория В. Подороги, утверждающего «наличие некоторой реальности, обладающей своей имманентной логикой, которая не сводима к языку»; эта «"до" или „за“ языковая реальность» связывается с «пространственными образами», с «той топологической тоской, которая существует в отечественной культуре и не дает себя нейтрализовать языку, уничтожить… Литературная интерпретация языка идет из пространственных, топологических образов, уже как бы данных, видимых, ощущаемых…»; «в пределах нашей чувственной восприимчивости существует некоторая ее нейтральная модальность, через которую мир впервые входит в нас, где мы не отделены от него, и сколько бы мы ни пытались ее объективировать, она ускользает, ибо она есть нечто большее, чем просто предел чувственности. Через нее поступает вся та информация, которая делает нас живыми организмами, но вместе с тем мы не можем ею распоряжаться по своему усмотрению. Мы в ней, а не она в нас…». (ПодорогаВ. Из Беседы с Жаком Деррида // Жак Деррида в Москве. М., 1993. С. 152–153; 176). Вместе с тем общее понимание ситуации здесь отлично от развиваемого Мерло-Понти, в том числе и по трем интересующим нас параметрам: по включению/выключению интенциональности и эгологии и, третий параметр, по интерпретации языка. Подорога акцентирует параллельно с феноменологическим топологический анализ, оттесняющий интенциональность и эгологию на вторые, подсобные или – противоборствующие – роли: «Топологический анализ телесных практик, отказываясь от опоры на нормативные ценности восприятия, пытается в своем описании того или иного телесного феномена учесть его перцептивную непредопределенность (А. Бергсон), т. е. именно то, что феноменологический субъект не принимает во внимание с самого начала. Феномены тела в таком случае описываются не столько с точки зрения их возможной включенности или невключенности в интенциональный горизонт субъектного сознания, а с точки зрения их имманентного, неинтенционального строения, где функция субъекта сведена к минимуму (Подорога В. А. Феноменология тела. М., 1995. Предисловие). Язык понимается в некоторой степени как агрессивная по отношению к „живому телу“ инстанция, поскольку язык всегда объективирует: „Иначе говоря, живое тело существует до того момента, пока в действие не вступает объективирующий дискурс, т. е. набор необходимых высказываний, устанавливающих правила ограниченного существования тела. Это может быть биологический, физический, физиологический, лингвистический, анатомический дискурс; и каждому из них требуется некое идеальное состояние тела, которое не имеет ничего общего с целостными, я бы сказал, „субъективными“ переживаниями телесного опыта… Если человеческое тело и обладает редким по своему многообразию собранием степеней свободы, то объективирующие дискурсы ставят своей задачей их ограничивать и упразднять… Более того, оно <тело> полностью находится во власти языка, объективирующего его. Тело, которое не может быть телесно пережито, в сущности, и не может быть телом, подобное тело не существует“ (там же). „Мое тело“ существует в „хрупком языковом зазоре“, образуемом между телесным чувством и всегда „запаздывающим телом Другого“. Телесность заранее „застает“ и чувство „я“ („я ощупываю предмет“), и язык для оформления этого телесного чувства: „.. мы не только „застаем“ язык, мы застаем и наше Я, которое является прежде всего лингвистическим телом (лингвистическое тело, надо понимать, отлично от тела подлинного). Вот эта тончайшая грань, отделяющая наши внутренние переживания телесного опыта („Я-чувство“) от Я, понимаемого в качестве лингвистического тела, все время стирается: мы все время путаем наше Я, которое производит высказывание, с нашим Я, которое молчит, у которого нет и не может быть дара речи, ибо его форма не определяется лингвистически, поскольку она действительно телесна и не может быть переведена в формальный порядок высказанного“.
Если ориентировать такую позицию относительно нашего контекста, то, поскольку здесь говорится о наличии некой за-языковой реальности и эта реальность ищется в том числе в литературе, можно было бы ее оценить как своеобразную часть феноменологии непрямого говорения, направленную на преодоление объективирующей агрессии языка (его всегда объективирующего ноэматического семантического смысла). В литературе (Гоголь, Достоевский, Белый, Платонов) язык толкуется Подорогой как «вспомогательное средство» для обнаружения этой за-языковой телесной реальности или как «противник»: в литературе «не прекращается борьба с языком ради демонстрации ряда особых идей, которые не могут найти адекватного выражения в языке, „не вписываются в него“» (Беседа с Жаком Деррида, с. 151, 152).
317
См. в статье: Бибихин В. В. Витгенштейн и Хайдеггер. Один эпизод (Историко-философский ежегодник. 2003): «субъект-предикатной формы» строго говоря «не существует»; «ясно, что где нет субъект-предикатной формы, там нельзя в этом смысле говорить и о предметах». Оценка Бибихиным бахтинского проекта с позиций хаидеггеровского языкового проекта как снижающего онтологический статус языка точно отражает соотношение между этими двумя проектами (Бибихин В. В. Слово и событие. М., 2001).
318
Подробно о смехе и серьезности у Бахтина см. § «Разновидности тональности по оси 'смех/страх'» и § «Диапазон тональности»; см. также «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией»; об иронии, благоговении и др. – см. наши комментарии к шестому тому собр. соч. Бахтина.
319
Дэвидсон Д. Что означают метафоры//Теория метафоры. М., 1990. С. 173–193.
320
См. емкое описание этой позиции у Ж. Женетта: «В наши дни буквальность языка представляется как подлинная сущность поэзии, и ничто так не противоречит подобному ее восприятию, как идея возможного толкования текста, допущение какого-либо зазора между буквой и смыслом… Так же воспринимается и знаменитая гневная реплика Бретона по поводу чьей-то перифразы Сен-Поля-Ру: „Нет, сударь, Сен-Поль-Ру ничего не хотел сказать. Если бы он хотел, то и сказал бы“… Бретон пишет: „Роса с кошачьей головой качалась“, – под этим он понимает, что у росы кошачья голова и что она качалась. Элюар пишет: „Кружащееся солнце блещет под корой“, и он хочет сказать, что кружащееся солнце блещет под корой» (Фигуры. Т. 1.С. 205).
321
Деррида Ж. Голос и феномен (раздел «Форма и значение, замечание по поводу феноменологии языка»).
322
Эта позиция поддерживается многими, в частности, П. Рикером, говорящим фактически то же – с той, правда, разницей (причины которой не место здесь определять), что в качестве несемантизуемого, неподдающегося «непосредственному выражению», но только косвенному, понимается не «смысл», как предлагается здесь, а некоторые «аспекты нашего бытия-в-мире» (Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб., 2000. С. 98).
323
Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. С. 37.
324
Здесь «действует» вполне определенная подразумеваемая ноэтическая ситуация непосредственного чувственного восприятия; если же наблюдатель вдали и не видит звенящего колокольчика, он и не назовет его позвякивание овальным. Но и он тоже может назвать его не только тихим или приглушенным, но и «стрекозиным» или «чайным» позвякиванием, и это тоже будет наложение двух ноэс – но уже двух разных слуховых ноэс при опущении одной из ноэм.