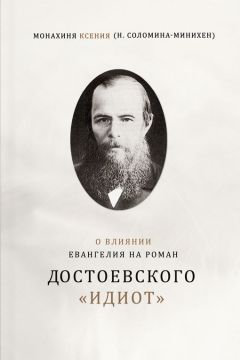76
Биографы и коллеги, после смерти Барта посвятившие его памяти сборник статей Размышления об "Освещенной камере" Барта, подчеркивают, что внутренним побуждением для написания этого трактата послужили скорбные переживания, связанные со смертью матери, горячо им любимой. Таким образом, в основе трактата лежит активная способность памяти живущего воскрешать былое и переносить его в свое настоящее. См. Jay Prosser, "What Barthes Saw in Photography (That He didn't in Literature)", Photography Degree Zero: Rfelections on Roland Barthes's «Camera Lueida», ed. Geoffrey Batchen (Cambridge MASS, London: The MIT Press, 2009), pp. 91–96.
В обоих случаях (Мышкин и Рогожин перед поразившим их лицом) законы архаичного метафорического вид́ения мира согласуются с семиологическими теориями Барта о магии фотокамеры
Если бы Барт обратился к литературным текстам и к роману Идиот в частности, описания магического прокола и превращения живого в неживое (momentum mori, punctum temporis, stilled life) показали бы, что и встреча Рогожина с Настасьей Филипповной, и сцена рассматривания ее фотографии Мышкиным, и рассказ, воспроизводящий воспоминания молодого человека, приговоренного к смертной казни, как особые виды рефлексивных субъектно – объектных повествований изоморфны главным смыслосодержательным моментам рецепции фотографий, которые составляют содержание его книги. См. фотопортрет Луиса Пэйна, в 1865 г. приговоренного к смертной казни за попытку покушения на жизнь государственного секретаря США Виллиама Стюарда, выполненный в тюремной камере: молодой человек с руками, забранными в наручники, неподвижно стоит у каменной стены и смотрит прямо перед собой. Надпись под фотографией: «Он умер и он будет убит» (фотограф Александр Гарднер, стр. 95). См. также рецепцию фотографии группы москвичей, расходящихся с первомайской демонстрации (работа Виллиама Клейна, 1959 г.): «Фотография показывает мне, как одеваются русские. Я замечаю большую кепку одного молодого человека, галстук другого парня, шерстяной платок на голове старухи…» (стр. 290). Ср. с описанием портрета старика – Рогожина в кабинете сына у Достоевского.
Об этом же см. Гомбрих, «Искусство и иллюзия», E.H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (Princeton NJ: Princeton UP, 1972), стр. 10–12, 29–30. По Гомбриху, определенная культура восприятия фотографий дает представление о таких свойствах и качествах изображаемого лица, которые не могут быть воспроизведены средствами живописи. Специфический эффект восполнения реальности, называемый Гомбрихом «иллюзией», обогащает фотографию как произведение искусства дополнительным информационно – эстетическим смысловым содержанием.
Ср. сцепу у входных дверей квартиры Иволгиных: «Князь снял запор, отворил дверь и – отступил в изумлении, весь даже вздрогнул: пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидела; она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом..:» (86). Авторским комментарием подчеркнуты характерные признаки экфразиса: рама, отделяющая созерцателя от созерцаемого субъекта, дистанция, которую быстро преодолевает Н.Ф., с толкнув князя и войдя в прихожую, портрет как средство мгновенной и правильной идентификации личности. Авторский комментарий, преодолевая границы рамы, приближает лицо к портрету, и этим объясняется эффект мгновенного узнавания – «он тотчас узнал ее».
Ощущение опасности, грозящей Н.Ф., возрастает у князя, когда он замечает, как воспринял Ганя его замечание о Рогожине. Картина представлена с позиции Мышкина, переводящего взгляд с портрета на Ганино лицо; объяснения, почему Ганя так реагировал на его слова, не дано: «Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. – "Что с вами?" – проговорил он, хватая его за руку» (32). Мысль о том, что и Гане, в минуты ненависти к невесте, приходила в голову подобная идея, найдет потом подтверждение в ее словах: «… а то бы зарезал», а предупредительный жест князя (схватил Ганю за руку) повторится в сцене скандала в доме Иволгиных.
Ирина Попова в работе «Другая вера как социальное безумие частного человека (Крик осла в романе Ф.М. Достоевского Идиот)» доказывает, что выбор рассказа об ослике вносит полисемию в смысловое содержание заглавия романа, показывая князя человеком смиренным, добрым, терпеливым, страдающим от припадков, многими принимаемым за невменяемость «идиота», но в уникальности своей – «частным человеком», наделенным «высшим умом». См. Вопросы литературы, 2007, № 1, стр. 149–165). В этом же номере журнала см. С. Пискунова, «"… Кроме нас вчетвером": Роман "Идиот" в зеркале "Дон Кихота Ламанчского"», Пискунова считает, что «визуализация художественного мира Идиота в тех его многочисленных частях, где повествование строится в ракурсе восприятия князя Мышкина», противопоставлена изображению Дон Кихота в романе Сервантеса: если смерть «доброго христианина Алонсо Кихано» знаменует его духовное спасение и прозрение, то эпилог романа Достоевского рисует Мышкина в состоянии неизлечимого безумия и символизирует его духовную смерть (стр. 175, 189). Я не согласна с подобной трактовкой межтекстуальных связей Идиота с романом Сервантеса (см далее часть 4), О сопоставлении Мышкина с Дон Кихотом – безумцем, едва ли не юродивом и мудрым философом одновременно, а также о полисемии понятий «больной умом» и «идиот» см. Michael C. Finke, Metapoesis: The Russian Tradition from Pushkin to Chekhov (Durham: Duke UP, 1995), рр. 85–91.
В годы пребывания Достоевского за границей среди специалистов по истории искусств существовало немало разногласий по поводу этой работы Гольбейна, которая по каталогу называлась «Мадонна Бургомистра Майера». В более старых каталогах, вплоть до 1833 г., считалось, что младенец Христос, которого Богоматерь держит на руках, олицетворяет собой душу умершего от тяжкой болезни младенца, сына бургомистра от второго брака. Другие эксперты полагали, что молитва Майера и его семейства, вознесенная к Богородице, была услышана, и по Ее заступничеству младенец Христос взял на себя страдания ребенка и даровал ему исцеление. Согласно этому толкованию, в работе Гольбейна содержалась аллюзия к книге пророка Исаии, 53: 4–5. В 1852 г. была опубликована работа Анны Джеймсон (печаталась под именем Mrs. Jameson), Legends of the Madonna as Represented in the Fine Arts, где первому мнению давалось более глубокое толкование. Интерпретацию Джеймсон вскоре поддержал Джон Рёскин, превратив свое описание работы Гольбейна в выразительный экфразис: «Отец и мать обращают молитву к Мадонне, прося сохранить жизнь их больного ребенка. Она является им со своим сыном на руках, приклоняет голову младенца Христа к ним и принимает к себе их дитя вместо Него. Ребенок ложится у ее груди, протягивая ручку к отцу и матери и прощаясь с ними… В чертах лица младенца выражается страдание. И если дитя символизирует собой Христа, то, по – моему, нет сомнения в том что оба, Рафаэль (раньше) и Гольбейн (позже) дали глубочайшее выражение и вернейшее прочтение ранней жизни Искупителя. Рафаэль изобразил Его власть, Гольбейн – усилие и скорбь». The Works of John Ruskin, ed. E.T. Cook, 1909, vol.1, pр. 13–14.
«Переворот», катастрофа (греч. katastrophē), «геологический переворот», – маркированные слова в образном и философском языке героев Достоевского.
В культурном обиходе посетителей музеев и выставок XIX века «Спящей красавицей» назывался слепок с головы мадам Дю Барри. Параллели и перекличку экфразисов: мадам Дю Барри и Настасья Филипповна на смертном ложе – нож гильотины – нож убийцы – смерть и смертная казнь проходят через повествование второй, третьей и четвертой частей (молитва Лебедева за умершую под ножом гильотины Дю Барри – нож на столе Рогожина, – нож, заложенный в книгу, брошенный в ящик письменного стала, а затем занесенный над князем: нож, о котором думает Настасья Филиповпа, глядя на Рогожина; нож, спрятанный в ящик и вынутый оттуда в ночь убийства).
Ср. первую встречу с Настасьей Филипповной, когда князь говорит ей: «Я ваши глаза точно где-то видел… Да этого быть не может!.. Может быть во сне…» и изображение полузабытья князя на зеленой скамейке в павловском парке: «наконец, пришла к нему женщина; он знал ее, знал до страдания; он всегда мог назвать ее и указать, – но странно, – у ней теперь было как будто совсем не такое лицо, какое он всегда знал… В этом лице было столько раскаяния и ужасу, что казалось – это была страшная преступница…»– У князя возникает предчувствие, «что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его как гнилую нитку». См. также изображение исхода дуэли соперниц: «Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор и посиневшие губы шевелились, спрашивая: 'За ней? За ней…. Она упала без чувств ему на руки» (90, 352,467, 475).