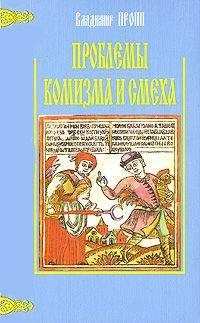Целью искусства является дать ви́дение вещи как ви́дение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия… (Шкловский 1983: 15).
Шкловский противопоставляет такое восприятие узнаванию: оно позволяет заново увидеть знакомую вещь как незнакомую, вместо того чтобы узнать ее как хорошо знакомую и потому не требующую мыслящего взгляда. Он ставит вопрос радикально: в этом суть искусства. За примером он обращается к Л. Н. Толстому, который «не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную» (там же). Вот пример того, как Толстой добивается этого: он рассказывает о жизни лошади и о том, что с ней произошло по смерти, а затем в тех же понятиях описывает смерть человека: «Ходившее по свету, евшее и пившее тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились» (там же: 17).
В описании остранения можно узнать загадку. И в самом деле, Шкловский приводит загадку в качестве образцового случая остранения. Более того, представленная в этом качестве загадка у него оказывается прототипом искусства вообще. Заметим, Шкловский отрицает узнавание как функцию остранения: узнавание, ссылка на известное – акт редукции, противоположный восприятию. Если отнести это к загадке, то взгляд Шкловского ведет к выводу, что цель ее – не то узнавание, которое объявляется в разгадке, а более внимательное восприятие образа, представленного описанием, и проникновение в его странность как значимую, а не как затруднение, через которое нужно переступить. Неузнавание Шкловский ценит выше узнавания. Неузнавание, впрочем, имеет особое значение у Шкловского: оно означает не «Я не знаю, что это такое», а «Я никогда этого так не видел – как это забавно!». Неузнавание в этом смысле означает созерцание чего-то в неожиданном и обнажающем суть облике. Созерцание затрудненного, неожиданного и свежего образа доставляет удовольствие – это художественный эффект.
И вот тут Шкловский совершает характерный для его манеры письма прыжок:
Но наиболее ясно может быть прослежена цель образности в эротическом искусстве.
Здесь обычно представление эротического объекта как чего-то в первый раз виденного. (Там же: 20)
Почему именно в эротическом искусстве яснее прослеживается цель образности, Шкловский не объясняет, но он демонстрирует, что дело обстоит именно так. Литературные примеры, приведенные Шкловским, взяты один из Гоголя, который немало почерпнул из фольклора, и другой, менее внятный, из Гамсуна, а дальше он переходит к предмету нашего интереса – к фольклору. Он цитирует былину о Ставре, в которой повествуется о том, как к богатырю приходит его собственная жена, переодетая мужчиной, и, чтобы он узнал ее, предлагает ему ряд иносказаний, в которых содержатся намеки на травестию. Она говорит об их совместных играх с его сваечкой серебряной и ее колечком позолоченным, об их совместном обучении грамоте, когда у нее была чернильница серебряная, у него перо позолоченное. Есть версия былины, в которой «дана и разгадка»: «Тут грозен посол Васильюшко / Вздымал свои платья по самый пуп. / И вот молодой Ставер, сын Годинович, / Признавал кольцо позолоченное…». Позднее Шкловский приводит еще ряд гораздо более смелых и ошарашивающих примеров из народных сказок.
А сразу же после рассмотрения былины следует еще один скачок авторской мысли – к обобщению: «Но остранение не только прием эротической загадки – эвфемизма, оно – основа и единственный смысл всех загадок» (там же: 21). Так оказывается, что остранение, которое ранее было объявлено сутью искусства, интимно связано с загадкой, так что загадка может служить прообразом искусства. Интимная связь загадки с эротической темой у Шкловского отмечена, но не объяснена. Ясно все же, что эротическая тема дает каким-то ей одной присущим способом повод к эвфемизму и остранению.
В отличие от Шкловского, несколькими годами позднее русский медиевист Варвара Адрианова-Перетц в статье о загадке 1935 года прямо ссылается на Фройда. Она не переносит его идеи на фольклор, а сообщает об обратном намерении: «…я хочу в настоящей заметке попробовать иллюстрировать наблюдения Фрейда над символикой сновидений поэтикой русских загадок» (Адрианова-Перетц 1935: 498). Ссылается она и на А. А. Потебню, указавшего в своих комментариях к малорусским песням на символизацию девицы в мотивах чаши или бочки (Потебня 1883: I,7),[24] и на этнографа народов Сибири Л. Я. Штернберга, заметившего, что фольклорные образы говорят о том, что учение Фройда о символике сновидений отнюдь не экстравагантно (Штернберг 1926: 41).
Адрианова-Перетц обращает внимание на то, что русская народная загадка содержит сексуальные символы в изобилии, но в таком виде, что они чаще всего в глаза не бросаются. Самые невинные загадки, обыгрывающие предметы домашнего обихода, содержат под поверхностью сексуальные намеки. Так, изба или баня означают беременную женщину. Мотивы, указывающие на входы и емкости, как амбар, ведро, корзинка, печь, дверь, ворота, самовар, являются женскими символами, а большинство мотивов, обозначающих инструменты, служат символами мужскими. При этом женские и мужские символы часто появляются парами, как пест и ступка, палец и кольцо, свайка и кольцо, сковорода и ухват, колодец и журавль, рука и варежка, ключ и замок, что усиливает их подразумеваемое значение.
Эти примеры могут показаться проекциями известного фройдова символизма. Расшифровав в сновидениях и некоторых литературных текстах эротический подтекст, Фройд указал на то, что носителями его могут являться некоторые знакомые мотивы, взявшие на себя символическую функцию. Этот несомненный факт был доведен до фарса вульгарными фройдианцами среди литературоведов, которые стали видеть сексуальные символы в каждом продолговатом и округлом предмете. Необоснованность подобных операций не означает необходимости вообще отказаться от идеи сексуального символизма в сновидениях, литературе и фольклоре. Неприемлемо лишь автоматическое отождествление. Шкловский был точен, отметив высокий эротизм фольклора. Загадка же вне всякого сомнения пользуется символическим языком и подстановками. В загадке подстановки искусно игривы и подчеркнуты в этом качестве – странностями своими они обращены к художественно чуткому восприятию. Культивирование такого, чуткого, алертного к символизму восприятия – вообще особенность фольклора. Фольклор охотно пользуется двусмыслицей, подчеркивая ее подмигиванием и ухмылкой. И загадка, обращаясь к культивированному таким образом восприятию, подает ему знаки – помещает свои символы в необычный, парадоксальный или оксюморонный контекст, даже если эротический намек неочевиден. Описательная фигура загадки не просто упоминает диру, а помещает ее на новой шубе, не только упоминает коня, но он у нее по колено увяз. Так вводится сомнение в прямом значении и требование свежего взгляда. Дира и конь оказываются в их загадочных контекстах не любой дырой и конем, а особенными. Метафорическому употреблению это не нужно – в выражении звезды балета нет ни иронического подрыва, ни странности, которые нужны в случае указания на избыток сигнификации. Странность указывает, что наряду с метафорическим смыслом, направленным на разгадку, в загадке имеется еще и дополнительный символический смысл. Метафора может быть окказиональной, придуманной для данного частного случая, чем обычно и пользуются поэты, а культурный символ не может быть символом в одиночестве. Культурные символы создаются повторением и принадлежат традиции. Загадка, точнее, культура загадки пользуется, как мы уже знаем с подсказки Петша, устойчивым набором мотивов. Устойчивость мотива не есть некий механический факт повторяемости – у повторяемости должно быть смысловое основание, которое даже будучи забыто, живет в генетическом коде традиции.
Вопрос остается только в том, права ли Адрианова-Перетц, усмотрев такое основание в специальном, повышенном интересе загадки к сексуальным значениям. С целью убедить, что сексуальная символика в загадке важна и не является фигментом воображения в извращенных умах некоторых фольклористов, ученый указывает на признанное рядом этнографов существование категории «нехорошей» загадки. Эта характеристика получена из рук самих носителей фольклора. Не менее важно, что значение этой категории загадки шире ее границ. Адрианова-Перетц находит, что, хотя «нехорошие» загадки по большей части осталась в архивах, в неопубликованных материалах экспедиций, некоторые все же попали и в печатные сборники: