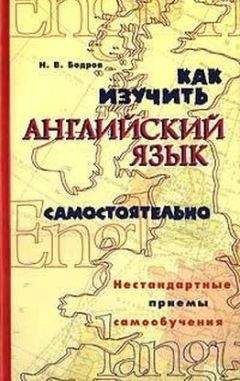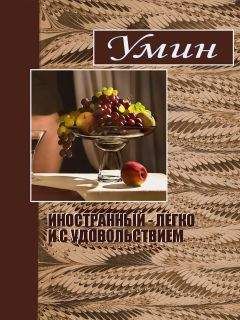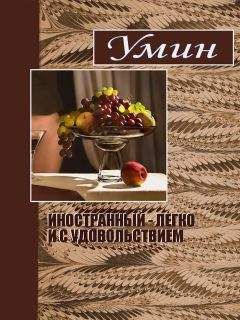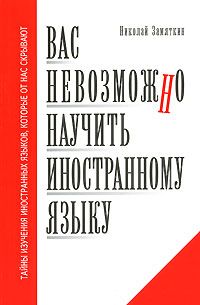Что же касается собственно слов, то я старался их не столько запоминать (это было не очень сложно), сколько тщательно «притирать» их в своем восприятии, отслеживая их взаимосцепление в каждой строке. Так я и разбирал стихи «по винтикам», взвешивал и оценивал их, играя какое то время отдельными строками и целыми строфами. Я даже комбинировал их, заменяя строфу одного стихотворения на строфу другого, делая это в уме, что заодно неплохо тренировало и память. Получившуюся «солянку» несколько раз репетировал для уже твердого запоминания и затем в течение нескольких дней прокручивал в памяти, опять-таки производя попутно некоторые перестановки. И хотя подобные манипуляции низводили высокую поэзию до уровня искусственных и просто бессмысленных конструкций, а сам такой процесс мало напоминал традиционное обучение, я, особо не смущаясь, все же получал пользу и от него. Конечно, все эти технические выверты играли временную и вспомогательную роль — они были лишь частью моего неформального подхода к самообучению. Может быть, без них было бы и проще, но, быть может, и наоборот — их отсутствие стало бы тем missing link (недостающим звеном), которое, пусть немного, но затормозило бы мое продвижение вперед.
В предыдущей главе я рассказывал о своих грамматических шаблонах, которыми успешно пользовался при чтении иноязычных текстов. Однако при всей их практичности те шаблоны как средство обучения были все-таки суховаты и не очень приятны в использовании. Стихи же стали для меня — конечно, лишь до некоторой степени — как раз приятными и привлекательными «шаблонами» по грамматике. И самое главное — они были всегда в голове. Именно это обстоятельство, как мне кажется, в дальнейшем больше всего и способствовало перерастанию моего чисто «изучательного» отношения к поэзии в «насладительно-одухотворительное». Очевидно, в моей душе пошел тот же процесс, что и в случае с живописью, от общения с которой я стал получать все больше радости по мере все большего внедрения в нее — особенно заочного, мысленного, — когда я развил способность более или менее четкого обозрения ее шедевров своим внутренним «оком». Стихи же я не мог — не обладая хорошей фотопамятью — мысленно видеть, хотя отдельные слова и даже целые строки, как и при описанных выше вспоминаниях текстов, мне удавалось довольно неплохо зрительно «высвечивать», и это реально помогало восстанавливать в памяти полузабытые строфы, а иногда и целые стихотворные фрагменты. Ну а то, что всегда в голове, то, что можно воскресить в памяти в любую минуту, постепенно превращается из поначалу просто учебного материала в материал духовный.
За некоторое время я довел, особо не форсируя этот процесс, число выученных и проработанных на свой манер английских стихотворений примерно до полусотни, на чем, правда, надолго и остановился. Но зато уж этот свой небольшой «золотой запас» (я уже не в первый раз использую в книге это определение, но более точного и яркого мне просто не подобрать) я стал эксплуатировать with all one's might (изо всех сил). Например, во время прогулок или тех же лингвопутешествий я с удовольствием декламировал свои любимые английские и немецкие стихи. Я это делал обычно в начале пути, как бы для разминки, для прочистки своих «духовных» каналов от всяких там житейских закупорок и наслоений. Но я читал стихи иногда и в конце трудного пути, поскольку и в чисто физическом отношении они поддерживали меня — помогали преодолевать усталость и даже боль и телесные недомогания. Моими невольными, но при этом и на зависть вольными слушателями были лишь окрестные перелески и заросли, воробьи и вороны, белки и ежики. Но и эта «аудитория» меня вполне устраивала. Тем более что и стихи-то мои излюбленные были о той же природе, о жизни, о счастье. Но не только на природе, а и в любом другом месте (дома, на работе) иноязычные стихи стали все чаще выполнять для меня свою вдохновляющую роль. К примеру, утром — для интеллектуально-духовной зарядки, или днем — перед началом какой-либо мало-мальски творческой работы — я повторял минут пять (больше и не надо было) те или иные любимые строки: что-нибудь из Шекспира, Байрона, Йейтса, Элиота или Гёте, Гейне, Брентано, Мёрике и др., но именно те, которые соответствовали в данный момент состоянию моей души, либо, наоборот, могли бы настроить меня на необходимый образ мыслей и чувств. Так же я поступал часто и по ходу самой работы, скажем, при чтении трудного иноязычного текста: почувствовав утомление или даже заскучав, я, чтобы как-то снять психическое торможение и устранить внутреннее неприятие тяжелого текста, прочитывал по памяти (с выражением и с некоторой мимикой и жестикуляцией, чтобы лучше войти в образ) пару-другую любимых стихов на этом же языке. Наверно, в чем-то это было подобно молитве. И маленькое чудо совершалось: я словно подзаряжался высокой творческой энергией, как бы духовно подпитывался, причем, что называется, из того же «колодца», то есть из того же языка, читая на котором текст, я только что уже чуть было не раскис. Да, это почти медитативное чтение стихов из моей «элитной» коллекции неизменно вызывало во мне ощущение любви и нежности к данному языку. При этом я испытывал не только высокую радость, но и гордость оттого, что эти вдохновенные строки великих поэтов хотя бы отчасти, но принадлежат теперь и мне, воздействуют и на мою скромную жизнь. Сознание этого прибавляло оптимизма, и я с немного обновленной, очищенной от удручающего настроения душой возвращался — почти уже с энтузиазмом — к прерванному чтению трудного текста. Некоторые из особо любимых английских и немецких стихотворений я заучивал вместе с их русскими переводами (если находил таковые), что придавало этому дополнительный лингвообучающий смысл, ведь сопоставлять даже очень вольный перевод с оригиналом есть занятие весьма поучительное. Подытоживая краткое описание своих взаимоотношений с иностранной поэзией, должен признать, что настоящим знатоком и почитателем английского и немецкого ямба и хорея я так и не стал. Но все же некоторым достигнутым для себя «поэтическим эффектом» остался вполне доволен. Да и сейчас стараюсь не упустить возможности лишний раз прокрутить в памяти что-нибудь из своих уже, можно сказать, старых запасов либо иногда заучить и кое-что новенькое. Конечно, теперь я отношусь к запоминанию очередного стихотворения уже не как к учебному процессу, а как к удовлетворению одной из духовных потребностей, да и просто как к эстетически приятному моменту жизни. Хотя и при этом все равно стараюсь не игнорировать мудрую и вечную истину “Live a century, learn a century” («Век живи, век учись»).
Но не только живопись и поэзия благодаря их эмоциональности помогали мне лучше воспринимать иностранный язык. Стихию красок и поэтических образов я с удовольствием дополнял и миром звуков — музыкой. Хотя музыка, в отличие от живописи и стихов, и не являлась непосредственным поставщиком информации в мою память, она оказывала мне неоценимую услугу по части приобщения к таким понятиям — важным для человека, изучающего язык, — как мелодия, ритм, гармония и даже… тишина. Конечно, гармонию как согласованность и соразмерность элементов системы можно познавать и использовать и при изучении, скажем, математики, но все же для нас, изучающих иностранный язык, желательно, чтобы ощущение гармонии было связано прежде всего с миром звуков. И музыка предоставляет для этого идеальную возможность. Я, кстати, начал все лучше это понимать именно по ходу изучения языка. Ведь музыка — это, по сути, та же информация для нашего мозга, что и язык, хотя и особого рода. Благозвучие в музыке, так же как, например, благолепие в скульптуре и архитектуре, приучает нас чувствовать и ценить гармонично аранжированную информацию и в других искусствах и науках, в том числе и в лингвистике. Известно, что даже самое маленькое предложение из 2–3 слов в любом языке имеет свою музыкальную окраску, свои мелодию и ритм, не говоря уже о гармонии грамматического построения.
И значит, музыкой речи не стоит пренебрегать, напротив, присутствие гармонии в звуках языка надо учиться распознавать и ощущать так же, как и в звуках музыки. Важно уяснить, что музыка — при серьезном к ней отношении — может реально простимулировать и языковые способности, даже если и в незаметном сразу качестве.
И вот когда я сам начал тогда все это постепенно осознавать, я и стал целеустремленно искать поводы и возможности почаще слушать музыку. Но не просто слушать как звуковой фон с машинальным отбиванием «железного» ритма пяткой левой ноги, а вслушиваться, внедряться в нее, переживать ее, воспринимать ее как своеобразную и чарующую эмоциональную информацию, не исключающую, впрочем, и пульсации ритма. Такое глубинно-интенсивное восприятие музыки лучше всего происходило у меня на шедеврах классики. Я начал — наряду с музеями — активно посещать и концерты, сделался почти завсегдатаем залов филармонии, капеллы, консерватории и прочих уютных мест. Я и раньше был не чужд музыкальных радостей, теперь же я стал поистине купаться в океане великолепных созвучий. Погрузившись в кресло где-нибудь в партере, а чаще на балконе и едва заметив первый взмах палочки дирижера, я закрывал глаза и уходил в себя, точнее, весь обращался в слух, приступая к «расшифровке» пленительной звуковой информации.