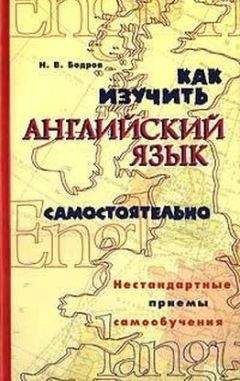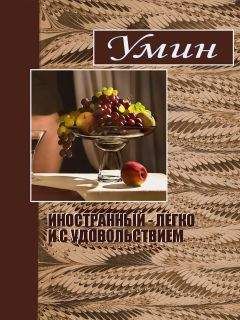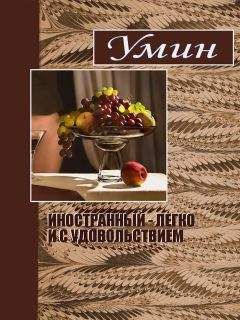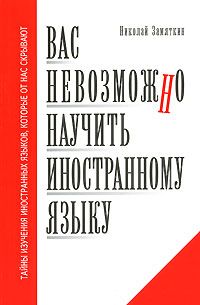И значит, музыкой речи не стоит пренебрегать, напротив, присутствие гармонии в звуках языка надо учиться распознавать и ощущать так же, как и в звуках музыки. Важно уяснить, что музыка — при серьезном к ней отношении — может реально простимулировать и языковые способности, даже если и в незаметном сразу качестве.
И вот когда я сам начал тогда все это постепенно осознавать, я и стал целеустремленно искать поводы и возможности почаще слушать музыку. Но не просто слушать как звуковой фон с машинальным отбиванием «железного» ритма пяткой левой ноги, а вслушиваться, внедряться в нее, переживать ее, воспринимать ее как своеобразную и чарующую эмоциональную информацию, не исключающую, впрочем, и пульсации ритма. Такое глубинно-интенсивное восприятие музыки лучше всего происходило у меня на шедеврах классики. Я начал — наряду с музеями — активно посещать и концерты, сделался почти завсегдатаем залов филармонии, капеллы, консерватории и прочих уютных мест. Я и раньше был не чужд музыкальных радостей, теперь же я стал поистине купаться в океане великолепных созвучий. Погрузившись в кресло где-нибудь в партере, а чаще на балконе и едва заметив первый взмах палочки дирижера, я закрывал глаза и уходил в себя, точнее, весь обращался в слух, приступая к «расшифровке» пленительной звуковой информации.
Сперва я предпочитал слушать отдельных исполнителей или небольшие по составу оркестры — за всеми их модуляциями легче было уследить. В музыке, как и в стихах, я поначалу уделял больше внимания не столько содержательной стороне, сколько формальной: я вслушивался в звучание и пытался определить, какие инструменты солируют или ведут параллельные партии в каждый данный момент. И постепенно все эти гобои и фаготы, кларнеты и флейты, я уж не говорю про смычковые и медные духовые, зазвучали для меня не сплошным и почти неразборчивым потоком звуков, как раньше, а вполне индивидуально, выпукло, колоритно. Но это было на первом этапе. На следующем же меня интересовало уже не распознавание различных инструментов и их мелодических «высказываний» (это, в общем-то, не требовало больших усилий от слуха), а более глубокое проникновение в гармонические нюансы самой музыки. Я открывал для себя все более сложные структуры музыкального языка, приобщался ко все более утонченным музыкальным мирам. Сотни и тысячи звуков большого оркестра теперь уже, наоборот, я мог объединить в своем сознании в единые музыкальные вибрации, с каждым разом (с нарастанием моего слушательского опыта) представлявшиеся мне все более божественными по какой-то их вселенской красоте и силе.
Но вкушая все это великолепие, я в то же время старался не забывать, что главная моя цель — и иногда я даже едва ли не жалел об этом — все-таки не музыка, а изучение языка. Поэтому я неуклонно продолжал все шире раздвигать пределы своего звукового восприятия — в смысле его качества. Довольно скоро я мог уже различать игру разных исполнителей как по их музыкальному почерку, так и по накалу их страсти, вложенной в музыку, по всей их эмоциональной выкладке, улавливал и особенности стиля работы некоторых дирижеров. При этом я старался не залезать в музыкальные дебри, я просто боялся это делать, понимая, что даже если самая популярная классическая музыка меня настолько пленяла, то куда же дальше? Ведь я уже считал пропавшим день, в который не удалось послушать, хотя бы в записи, к примеру, Пятый фортепианный концерт Бетховена или что-нибудь из его сонат, Первый фортепианный концерт Шопена или некоторые его вальсы, Второй концерт Рахманинова или «Картинки с выставки» Мусоргского, “Liebestraum”Листа или «Венгерские танцы» Брамса и «Славянские танцы» Дворжака, я уж не говорю про нептунобожественную «Шехерезаду» Римского-Корсакова, про многие недосягаемо гениальные шедевры Чайковского и, разумеется, про само чистейшее воплощение гармонии в ее первозданном виде — произведения И. С. Баха.
Интересно, что раньше некоторые из этих произведений, как и многие другие, не оказывали на меня большого впечатления. Но, очевидно, здесь также сыграл свою благородную роль уже упоминаемый выше эффект пристального вслушивания, всматривания, созерцания и размышления, то есть активного и многократного внедрения в информацию всеми мыслями и чувствами. Например, те же «Картинки с выставки» Мусоргского я до того времени почти не воспринимал, был к ним безразличен. Теперь же эти неброские и очень русские по духу, по своей парадоксальности «Картинки» во всем их напряженно-тоскливом и одновременно каком-то запредельном сладостно-завораживающем звучании — особенно в исполнении оркестра — сделались для меня ярким образом и отражением всей нашей, в том числе и современной, российской действительности. Конечно, я прочувствовал и полюбил «Картинки» не столько за этот их «социальный» подтекст, сколько за их музыкальное очарование, за ту неуловимую звуковую терпкость, которая вызывает царапающие по душе ощущения, вызывает состояния, которые обычно испытываешь, лишь пребывая на границе, на стыке светлого и темного, сладкого и горького, познаваемого и непознаваемого.
Да, все эти эмоции и состояния были интересны и поучительны, все это приподымало завесу над — во многом еще загадочным для меня и блистающем где-то высоко, как солнце в зените, — миром большой музыки. Но вот наступил момент, когда я должен был признаться самому себе: музыка оказалась для меня слишком соблазнительна и завлекательна — она поглощала целиком. Я же на данном этапе не мог позволить себе все выше и выше воспарять в ее манящие сферы. Значит, надо было брать себя в руки и ограничивать свои музыкальные потребности. К счастью, это удалось сделать почти безболезненно — вероятно, во многом потому, что музыка при всей ее ослепительности была все же не единственным «солнцем» в моей жизни. Я стал теперь меньше слушать, довольствуясь лишь самыми излюбленными пьесами и в небольших дозах. Но и в дальнейшем, наслаждаясь музыкой пореже и намеренно воспринимая ее как бы немного хладнокровнее, я по-прежнему и уже почти автоматически продолжал отмечать наиболее для себя необычные и полезные детали исполнения. Так, я заметил, что большое значение в музыке имеет тишина, точнее, наша способность воспринимать тишину. Ведь если, к примеру, общеизвестно, что в белом цвете потенциально заключен весь цветовой спектр, то также можно сказать, что и в тишине как бы сокрыты все звуки мира. Тишина, если угодно, чревата всем многообразием звуков. Поэтому, на мой взгляд, пытаться внимательно и чутко слушать тишину — и не только в музыке — занятие небесполезное. Замереть на какое-то время и постараться услышать те исчезающе-слабые звуки, которые обычно остаются нерасслышанными, так как они хотя и воспринимаются нами, но не регистрируются сознанием, — это важно не только для развития тонкого и цепкого слуха, который и сам по себе необходим для изучающего язык, но это полезно и потому, что мы при этом приучаем себя сосредоточиваться на тех объектах и той информации, которые из-за их слабости и невразумительности, как правило, не вызывают нашего внимания и интереса, мимо которых мы равнодушно проходим. Тренировать свой слух в этом направлении особенно полезно в наш чересчур громкий и довольно грубоватый век. И тем более полезно для некоторых современных молодых людей, для которых зачастую именно громкость исполнения мелодии или песни составляет едва ли не основное их преимущество.
А те роскошные пианиссимо (pianissimo — крайне тихо, итал.), которые в музыкальных произведениях, особенно классических, незаметно переходят в полную тишину, но в тишину, как бы еще звучащую в сознании, в тишину, в которой спрессованы чувства и мысли, то есть в тишину, несущую заряд реальной духовности, а следовательно, и не в тишину вовсе, а в некий просто не слышимый нами в данный момент сгусток музыкально-интеллектуальной информации, — так вот эти роскошные пианиссимо, особо гениально сработанные в опусах великих композиторов-кудесников XVIII и XIX веков, взывают к нашей как слуховой, так и духовной тонкости, к умению не только слушать, но и слышать, к умению чувствовать и понимать. А эта желанная духовная тонкость, утонченность, к которой все или, во всяком случае, многие из нас так или иначе, явно или хотя бы подсознательно, но стремятся, эта наша желанная способность проникнуть в тайные сферы информации — на первый взгляд невидимой или неслышимой — и является одной из самых полезных способностей, влекущей нас к любому творчеству, в том числе и к изучению иностранного языка. Ведь творчество в любом деле начинается там, где кончаются грубость, толстокожесть, равнодушие к тонким и нежным духовным ощущениям. Но музыка учила меня находить смысл и гармонию не только в звуках, растворяющихся в тишине, как и в собственно тишине, но и в самых обычных паузах между звуками. Постепенно я осознал, что даже самые рядовые и незначительные паузы — между окончанием одной музыкальной фразы и началом другой — я должен активно использовать для мгновенной обработки только что полученной музыкальной информации и не менее мгновенной попытки предчувствовать, предугадать последующую — чтобы настроиться на нее. Я понял, что надо учиться использовать паузы для максимально полного извлечения скрытой в них (точнее, во мне же самом, в моем интеллекте, в моей фантазии) информации. Из музыки я перенес это понимание и на язык. Так, при прослушивании радиопередач на английском я пытался в течение каждой, даже самой небольшой, паузы проникнуть как можно глубже в смысл излагаемой информации, чтобы с окончанием паузы быть немного лучше готовым к дальнейшему восприятию. Этот процесс не позволял отвлекаться ни на мгновение, он требовал крайнего сосредоточения и изрядных волевых усилий, но зато и отдача от него была соответствующая. Кроме того, я теперь чисто по-музыкальному — как слушатель в концертном зале — старался вслушиваться в каждый нюанс тембра иноязычного диктора, в каждое повышение или понижение его голоса, в каждый оттенок звучания того или иного слова. В результате у меня даже появились любимые дикторы, которых я сразу узнавал по их бархатным, четким голосам и несуетливой манере изложения.