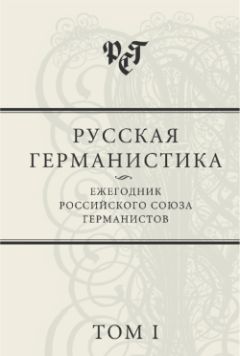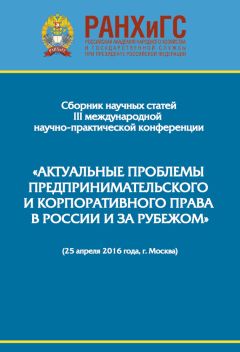Специальной разработки заслуживают, далее, так называемые контекстные связи – модифицированная форма бесконтактных ис-торико-типологических конвергенций, характерная для Нового и Новейшего времени, в особенности для провозглашенной Гёте «эпохи всемирной литературы». «Влияние, – писал Б. М. Эйхенбаум, – случай, когда устанавливается прямое пользование тем или другим источником. Но за пределами этого источника, побывавшего в руках автора, стоит литература эпохи, которая присутствует в его сознании как общий контекст – как литература, создаваемая эпохой. Определение прямого источника (влияния) получает историко-литературный смысл, когда этот источник возведен к соответствующему контексту».[27] Очевидно, что возведение двух или более разноязычных литературных явлений к их общему контексту может служить принципом сопоставления этих явлений также и вне их прямого контакта.
В качестве связного и связующего контекста может выступать любой интернациональный корпус текстов, поддающийся анализу по какому-либо признаку: ментальному (настроение «мировой скорби»), жанровому («новая драма», лирическая драма, Kunstlerroman и т. д.), идейному (революционная поэзия, католическая поэзия, поэзия, ориентированная на «философию жизни» и т. п.), тематическому (тексты о тайне, тексты о смерти, тексты о языке, тексты о Венеции и т. д.) или формальному (свободные ритмы, открытый финал, повествовательная перспектива и т. д.).[28]
Интересной и недостаточно изученной формой контекстных связей являются также черты сходства, возникающие во всех европейских литературах на основе одновременного обращения к предшествующим культурным эпохам и стилям, которые ощущаются и актуализируются как родственные и служат общим резервуаром мотивов, сюжетов, поэтических образов.[29]
Поэты не обязательно должны воспринимать друг друга; для сравнительного анализа достаточно, если они воспринимают – каждый по-своему – одно и то же. Сколько раз Рильке упомянул имя Блока, кто и когда рассказывал Блоку о Рильке – выяснить все это очень важно, но это важно только потому, что Рильке и Блок, один на другого ни в малейшей степени не повлиявшие, связаны, тем не менее, общим идейно-художественным контекстом своего времени, который допускает сопоставление их произведений независимо от фактов взаимной рецепции.[30] Исследования такого плана уже дали и еще обещают самые неожиданные результаты.
* * *
Если всякий воспринятый текст – это текст в переводе на язык другой культуры, то задачей исследователя является обратный перевод этого текста на его исконный язык, на язык той культуры, в условиях которой он был создан. Такая задача всегда и ставилась. Так, в статье 1949 г. «Восприятие иностранных литератур и проблема иноязычия» М. П. Алексеев приводит множество примеров трансформации иноязычных текстов при импорте, а затем задает вопрос о том, так ли уж сильно отличаются от рядовых читателей ученые исследователи: «Всегда ли последние в достаточной мере считаются с весьма могущественной национальной языковой или литературной традицией, искажающей восприятие иноземного литературного произведения? Во всех ли случаях они в состоянии определить качество и характер неизбежных ошибок такого восприятия, поскольку и сами исследователи в своем языковом и литературном сознании в известной мере ограничены в том же самом отношении, т. е. подчиняются этим традициям? Какими, наконец, должны быть пути для ликвидации этих ошибок и мечтающегося нам полного и всестороннего понимания всякого иноязычного литературного памятника, каким бы чуждым и далеким он ни представлялся?».[31]
Ясного ответа на свои вопросы Алексеев не дает, ограничиваясь призывами глубже «вживаться» в строй чужого языка и чужой мысли. Кажется, он все же предполагает, что существует принципиальная возможность адекватно реконструировать язык той культуры, в условиях которой текст был создан; иначе бессмысленно было бы говорить об «ошибках» и «искажениях» в понимании этого текста.
Между тем такая реконструкция едва ли возможна, и мечта Алексеева о полном и всестороннем понимании не должна препятствовать подлинному осмыслению нами границ нашей компетентности – в том смысле, в каком писал об этом Эрвин Панофски: «Специалист отличается от наивного зрителя тем, что осознает свою ситуацию».[32]
Ситуация же русского исследователя, пишущего об иностранной литературе, заключается именно в том, что его обратный перевод никогда не может совпасть с оригиналом полностью. Причина несовпадения есть то, что Пьер Бурдье обозначил как «культурный габитус», связывающий исследователя с его эпохой и национальной средой.[33] Если согласиться с невозможностью «непорочного познания»,[34] то единственная возможность, которая остается русскому исследователю, – это сознательно применить к иноязычному материалу тот опыт восприятия, те навыки и аппарат мышления, которые сформировались у него в условиях и под влиянием его родной культуры и неизбежно несут на себе ее отпечаток.
Иностранная, инокультурная германистика[35] находит свое оправдание в диалектике двух последовательных движений мысли. Шаг, о котором писал М. П. Алексеев, несомненно необходим. Усвоение языка чужой культуры, знание иностранного историко-литературного контекста, осознание национальной (как и исторической) дистанции и попытка эту дистанцию преодолеть, временное отречение от «своего» во имя непредвзятого понимания «чужого» – все это непременное условие научного исследования. Делая этот шаг, интерпретатор отделяет себя от наивного реципиента, ученый – от «наивного» читателя. Но таков только первый шаг; ограничиваясь им, русский германист соглашается с ролью более или менее способного ученика своих немецких коллег. Вот почему имеет смысл задуматься о возможности второго шага, право на который имеет, разумеется, лишь тот, кто преодолел трудности первого.
Второй шаг – результат продуктивного отчаяния, «фаустовского» разочарования в мудрости всех четырех факультетов. Он начинается с осознания того, что реконтекстуализация не обеспечивает истинного понимания текста, ибо такового не существует, как не существует в тексте и его аутентичного смысла. «Смысл книг, – писал еще в 60-е гг. Жерар Женетт, – находится впереди, а не позади них, он в нас самих; книга – это не готовый смысл, не откровение, которое нам предстоит пережить, это запас форм, ожидающих себе смысла, это неизбежность, близость откровения, которое. каждый должен реализовать сам для себя». Цель критики, вторит Женетту Ролан Барт, не в том, чтобы «раскрыть» в исследуемом произведении нечто «скрытое» и «глубинное», а в том, чтобы «приладить – как опытный столяр умелыми руками пригоняет друг к другу две сложных деревянных детали, – язык, данный нам нашей эпохой (экзистенциализм, марксизм, психоанализ), к другому языку, т. е. формальной системе логических ограничений, которую выработал автор в соответствии со своей собственной эпохой. Если в критике и существует доказательность, то зависит она не от способности раскрыть вопрошаемое произведение, а, напротив, от способности как можно полнее покрыть его своим собственным языком».[36]
Отсюда явствует, что русский германист может избрать два подхода к немецкому материалу: либо симулировать референтную рамку и язык интерпретации немецких исследователей (именно симулировать, поскольку русскому исследователю, несмотря на все усилия, не дано все же до конца преодолеть свой культурный габитус), либо отважиться на вторичный семиотический перевод, на интерпретацию немецкого текста в русской перспективе. Очевидно, что речь может идти при этом об актуализации лишь одного уровня значений из многих, заключенных в иноязычном тексте, – того, который формируется в русской перспективе и которого никто, кроме нас, создать не может.
Если в теории русского сравнительного литературоведения господствовал и господствует идеал адекватного понимания, то на практике он нередко и очень успешно подменялся русской перспективой.
Первый пример здесь – это «История западной литературы XIX века (1800–1910)», вышедшая в 1912 г. под редакцией проф. Ф. Д. Батюшкова, – со статьей Вячеслава Иванова «Гёте на рубеже двух столетий» и главами Ф. А. Брауна о немецком романтизме. Формально эти статьи относятся к области германистики, но по существу перед нами – скрытая компаративистика, изучение немецкой литературы на фоне и в свете русского символизма или, если угодно, неоромантизма. И не потому, что и у Иванова, и у Брауна встречаются пассажи, прямо отсылающие к русским символистам. Такие пассажи – только вершина айсберга, а вся его подводная масса – это целостная концепция собственной национальной культуры, которая придает смысл и направление мыслям о Гёте или немецких романтиках.[37]