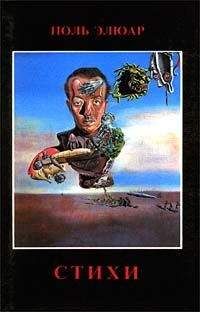Потемки чужой души рассеяны, как рассеялись одно временно и потемки собственной души. «Нельзя меня знать лучше, чем знаешь ты… Нельзя тебя знать лучше, чем знаю я». Отныне над этой завоеванной ясностью, над этим знанием-родством не властны ни километры, ни годы. Оно еще допускает с болью «до свиданья», но никогда – «прощай». Поверх всех расстояний и разлук два человека, мужчина и женщина, навеки вместе, и ни одна из половин их единства не может оторваться, не обрекая на гибель обе.
Даже когда мы с тобой друг от друга вдали
Все нас роднит
Частица тебя обитает в голосе эха
И в зеркале
В комнате в городе
В каждом мужчине в женщине каждой
В моем одиночестве
И это всегда частица тебя
И это всегда частица меня
Мы разделили наследство
Свою долю ты мне завещала
Я свою завещаю тебе.
Возникшая в такой любви-слиянии, любви – взаимном сотворении нерасторжимая цепочка жизни «я – ты» на этом вовсе не обрывается, не порождает супружеского отшельничества вдвоем в отгороженной ото всего спальне. Возлюбленная у Элюара – посредница, соединяющее, а не конечное звено. Она «одна за всех», «заместительница всех женщин, волнующих меня» и «украшена всем, что мне на свете желанно: покоем и свежестью, солью, водой и солнцем, нежностью и отвагой, и тысячью причуд, и тысячью уз». Для «полюбившего любовь» близкая женщина сродни всем женщинам: «Слушай себя, ты говоришь за других, и если ты отвечаешь, другие слышат тебя. Высоко в небе под солнцем, которое избавляет тебя от тени, ты занимаешь место каждой, и твое бытие бесконечно». И оттого близость с ней – предвестье и зародыш всесветного родства, которое личность устанавливает с человечеством и, больше того, со всем беспредельным мирозданием.
В таком космическом своем настрое любовная лирика Элюара, при всем ее застенчивом целомудрии и трепетном изяществе, чем-то напоминает пантеистическое язычество поэтов Возрождения. Христианское недоверие к плоти – источнику первородного греха – здесь начисто отметено, как отметен и угар чувственности болезненной, дурманящей. О женском обнаженном теле, о «пылающей лампе желания, что зажигается на твоем лице средь яркого дня», о «разделенных ночах» и «расстеленной кровати – усыпанном звездами кусте превращений» говорится откровенно и просто, без пуританских недомолвок, но и частого их спутника – скабрезности. Эрос Элюара светел, радостен, не омрачен бодлеровским разладом плоти и духа, потому что он щедрый дар живого и естественен, как дыхание, тут нет ничего ни зазорного, ни запретно-унизительного. Женщина – не служительница в храме сладострастия, а душа природы, владеющая языком недр. Она из тех «дев ночи, дев дождя, дев огня», что «танцуют на родниках солнца»; сама «заря обвила ей шею ожерельем из окон». «Во всех шорохах мира» влюбленному Элюару слышится звучанье ее голоса; «нежные дороги, прочерченные ее прозрачной кровью, соединяют все земные создания». Между ней и вселенной существует какая-то таинственная перекличка, исконное родство.
Ты встаешь и вода раскрывается
Ты ложишься и вода расцветает
Ты вода от пучин отведенная
Ты земля пустившая корни
Чтобы все стало прочным на ней
Ты пузырек тишины в огромной пустыне скрежета
Ты играешь ночные гимны на струнах радуги
Ты везде и дороги стали ненужными
Приносишь ты время в жертву
Вечной молодости костра
Который природу окутывает воссоздавая ее…
Вот почему каждое слово, обращенное к любимой, – как бы разговор впрямую со всем сущим, каждая ласка – прикосновение к самой плоти земной, каждая минута близости – слияние с бытием, от обыденных вещей до космических стихий:
Я сказал тебе это для туч
Я сказал тебе это для дерева на морском берегу
Для каждой волны для птицы в листве
Для камешков шума
Для привычных ладоней
Для глаза который становится целым лицом и пейзажем
И которому сон возвращает небеса его цвета
Я сказал тебе это для выпитой ночи
Для решеток у края дороги
Для распахнутых окон для открытого лба
Я сказал тебе это для мыслей твоих и для слов
Потому что доверье и нежность не умирают.
Подлинным масштабом чувства двоих оказывается безграничность вселенной, а не пространство меж четырех домашних стен; на смену любви, заслонившей собой целый мир, идет любовь, которая кажется множеством окон, настежь распахнутых в мир. И каждое – чудодейственно. Смотрящий сквозь них обнаруживает на всем отпечаток могучей энергии, которая исходит от той, что способна «испарять солнца». Она «сбивает шар земной с размеренного шага и задает ему другую поступь»; «дней и ночей череда покорна ее ресницам». Похоже, что «ее молчащий рот способен доказать невозможное». Ей по плечу повелевать рассветом и отодвигать сумерки, среди лачуг возводить дворцы, заполнять карнавальным шествием пустынные улицы и площади, поворачивать земную ось и менять орбиты планет, выращивать цветы на запорошенных снегом полях. Эта фея-волшебница не переносит за тридевять земель, в страну молочных рек в кисельных берегах, она совершает свои чудеса здесь, среди будней – тусклых, серых, осенних, и Элюар, как завороженный, перебирает в уме ее дары: «дневная листва и мох росистый, камыш на ветру, благоухающие улыбки, крылья, покрывшие землю светом, корабли, груженные небом и морем, уловители шумов, источники красок, пахучий выводок зорь на соломе звезд».
Да и как не преисполниться веры в ее всемогущество, если благодаря ей однажды для того, кто «умирал оттого, что не умер», наступила «ночь, которая была, наверно, не последней, но все же первой ночью без страхов, ночью, подобной дню без трудов, без отвращенья»? А потом были еще и еще эти сказочные ночи-дни, ночи-праздники, ночи – путешествия в радость. Значит, любви дано в конце концов избавить нас от несчастья, как она избавляет от одиночества, значит, счастье – не выдумка утешителей, оно вокруг, рядом, достаточно протянуть за ним руку. Вопреки всем пророкам отчаяния, всем скорбникам и плакальщикам, вопреки сдавшимся и сломанным, Элюар поет доверие. Он не сомневается: «Случайно все, что жжет, подтачивает, старит, что гложет и приносит смерть, но вечен, вечен блеск согласья меж золотом волос и человеком». Он сам испытал:
В полный голос
Проворно любовь поднялась
И ослепительно вспыхнула
И рассудок в мансарде своей
Признаться во всем не посмел.
В полный голос
Тучи воронов кровью сокрыли
Память о прежних рожденьях
Опрокинутых в волны света
В замученное поцелуями завтра.
Есть на свете одно существо и немыслима несправедливость
Любовь избирает любовь не меняя лица.
«Несправедливость немыслима!» Опровергнув легенду о роковой разобщенности людей, любовь, согласно Элюару, развеивает и миф об изгнанничестве греховной твари в юдоли земной. Близости с женщиной он обязан теми минутами-зарницами, когда доверие к жизни не отдает розовым прекраснодушием, когда он умом, сердцем, всем существом постиг, что почва для свободы и радости доступна, страдания наносны и преходящи, что сама жизнь может и должна не на один миг, а всегда и повсюду быть послушной человеческой жажде счастья.
С давних пор у лириков Франции любовь повелосьри совать совсем по-другому – как любовь-злосчастье. От Ламартина и Марселины Деборд-Вальмор до Бодлера, от Нерваля до Корбьера и Лафорга они куда как чаще оплакивали хрупкую, не выдержавшую превратностей судьбы близость двух любящих, страшились испепеляющей страсти или безнадежно по ней томились, чем исповедовались в любви счастливой. За редкими исключениями, вроде Нуво, любовь оборачивалась для них горем, терзанием, катастрофой, на худой конец утраченным навсегда или вовсе несбыточным блаженством – mal-amour, по слову Аполлинера, заимствованному им из средневековых заплачек.
Элюар, как и Арагон, Бретон или Деснос, мыслил себя одним из душеприказчиков Рембо с его повелительным за вещанием потомкам: «Любовь надлежит изобрести заново». Наказ этот подхватывался ими не ради красного словца, а с попыткой по-своему внятно уяснить как его духовно-историческую содержательность, так и собственные устремления. Элюар улавливал в нем волю изжить бодлеровский вкус к несчастью, который отнюдь не был признаком душевной хилости, а, наоборот, составлял «сверхъестественную добро детель» в «эпоху, когда смысл слова “счастье” деградировал до того, что оно сделалось синонимом бездумья», покорного подчинения раз и навсегда заведенному порядку вещей. «Роковая» склонность Бодлера переживать и осознавать действительность трагически была поэтому бунтом против «всех довольных карликов, расплывавшихся в блаженной улыбке юродивых». Но завороженность несчастьем, будучи гораздо достойнее счастьица мещан-приспособленцев, все же далека от тяги к счастью неподдельному. Отсюда у Элюара стремление включить в собственное исповедание веры и наказ Рембо, и призыв Лотреамона заменить «меланхолию мужеством» и «отчаяние – надеждой».