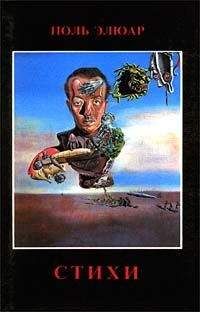Размежевание с недавними попутчиками сквозной нитью проходит через «Естественный ход вещей», как и через по следовавшую весной 1939 г. книгу Элюара «Полная песня». В «Естественном ходе вещей» особняком выделен раздел «Права и обязанности бедняка», где от стихотворения к стихотворению, штрих за штрихом рисуется весьма язвительный портрет некоего «третейского судьи», обладателя истины в последней инстанции, в котором без труда угадывается «папа сюрреализма» Андре Бретон. «Верьте мне, я есмь закон!» – вещает этот наставник мнимой мудрости, давно «переставший что бы то ни было понимать» и упорно цепляющийся за обветшалые заповеди, из которых выветрились последние крохи мысли. Бесконечное плетение словес, ровным счетом ничего не меняющее в распорядке земных дел, ловушка громких фраз, куда вслед за ее изо бретателем попадают и его последователи, обрекая себя на суемудрие, никому не приносящее ни радости, ни облегчения, – такой предстает теперь в глазах Элюара доктрина его друга со всеми ее архиреволюционными лозунгами и мистическими поползновениями:
В свою очередь он говорит о несправедливости
О низменных вожделениях
О тирании и варварстве
Но его слова разоружены
Сей образец для подражания
Отжил свой век среди нас
Сей всеотрицающий владыка
Однорукий с причудливым телом
Повторяет себя в последний раз
Он уменьшается
Его священный лик распластан
Ниже самой земли.
«Третейский судья», вместо драгоценностей нацепивший на себя ядовитые травы, «вполне заслужил» оскорбительную кличку «мертвеца». Ведь он не желал замечать вокруг себя никого, даже самых близких, навечно оставаясь причастным лишь к разряду «одиноких и равнодушных» («Среди прочих теней»). Быть может, большое горе когда-нибудь и приведет его в стан живых людей, сейчас же «плоды, круглый год растущие у него в саду, несъедобны» («Последствия одного преступления»). Крылья порхающих там бабочек потускнели, звезды кажутся потонувшими в мутной воде, а «летние дни бесполезно пожухли» («Итог»). Элюар жаждет вырваться из владений этого заносчивого, мертвящего все вокруг себя ума, куда попал по ошибке, приняв подделки мысли за настоящие самородки.
Но если до сих пор он слишком долго медлил, то в этом повинен не только прикинувшийся подлинным кумир, а и он сам, поклонявшийся идолу, словно божеству. Элюар упрекает себя за многолетнюю слепоту по крайней мере с такой же резкостью, с какой развенчивает Бретона. Рядом с портретом «третейского судьи» в стихотворениях «Здесь, одному преступнику», «Еще дальше», «Ради вящей гордости» («Естественный ход вещей») и «Конец одного чудовища», «Добродетельный отшельник» («Полная песня») возникает автопортрет «добродетельного отшельника» – того самого, каким Элюар был еще вчера и с которым сегодня вступил в схватку. Словно два разных человека столкнулись в одном. У первого, обратившего лицо назад, «в груди мрак навсегда затянул небо», и только изредка вспыхивают слабые «про блески подземелья», его «уста – разбитое эхо», его «руки – свинцовые монеты», он весь – «плод праха». Зато у его соперника – «желанья цвета ветра», он жаждет вырваться из опостылевшего каземата и шагнуть на волю, где «красота, добро, правда и пылающие страсти». Между этими двумя нет и не может быть согласья, их распря достигла такого напряжения, что второй готов стереть с лица земли первого. Для Элюара этот поединок с самим собой – вопрос жизни и смерти: «Надо, чтоб ты видел, как ты умира ешь, чтобы узнать, что ты продолжаешь жить».
Сражение, полем которого стала душа Элюара, пока далеко от завершения. Но сама его ожесточенность, та искренняя страсть, с какой Элюар отбивается от всего, что тянет его назад, показывает: исход предрешен. Близится день, когда он спокойно, с сознанием превосходства, которое приходит к победителю, скажет: «Люди грядущего, давайте задумаемся на минуту о прошлом. Так доблесть думает о несчастье. Мое прошлое, мое настоящее, вы больше нас не пугаете». Слова человека, который в последний раз оглядывается на оставленный за спиной отрезок пути, перед тем как зашагать вперед, к иным далям. И который знает уже, что ему суждено избавиться от тяжелого груза собственного прошлого, что счастье без преследующих по пятам страхов и забот, доверчиво повернувшееся лицом к будущему, доступно и даже неминуемо.
Уверенность эту Элюар черпает уже не в том легко пересыхавшем источнике, каким ему недавно служило ни с чем не считающееся воображение. Она в гораздо более надеж ном сознании своего кровного родства с теми, кто своими руками строит жизнь. «Полную песню» открывает видение утренней, обжитой и вполне прирученной Земли. Элюар приветствует пришествие «людей из низов, что познали пот, уда ры, слезы и которые снимут жатву всех своих мечтаний. Вижу я, как настоящие люди, чувствительные, добрые, полезные, сбрасывают с плеч бремя, что ничтожнее смерти, и радостно отдыхают под шум солнца» («Мы существуем»). И Элюар не сомневается: «…вскоре встанут они во главе городов».
Чтобы заговорить обо всем этом в лирике, следует резко раздвинуть ее границы. Отныне ей предстоит «не идти к сердцу других людей, а исходить из него», научиться не просто передавать мимолетные озарения одного, но пережитое всеми, каждым. Прежний арсенал приемов письма, самый словарный запас во многом уже недостаточны для встающих теперь задач. Элюар остро ощущает разрыв между накопленным мастерством и материалом, с которым предстоит иметь дело; недавно еще значимые для него пред писания теперь спутывают по рукам и ногам. В стихотворении «Несколько слов которые до этого дня почему-то считались запретными для меня» («Естественный ход вещей») как бы наугад перечислены существительные, с пренебрежением исключавшиеся им раньше из лирического словаря, поскольку они «часто встречаются в газетах, в песнях». А между тем это «слова чудесные, не хуже прочих», и пренебрежение ими – обкрадывание самого себя. И если прежде без них хоть как-то удавалось обойтись, то теперь Элюар, преисполненный решимости охватить «область чело веческого» во всем ее многоразличии, в том числе и в ее житейской обыденности, возвращает права поэтического гражданства бывшим словам-изгоям,
Словам что сегодня пишу
Наперекор очевидности
И с великой заботою
Все сказать.
За этой жаждой «все сказать»[68] кроется прежде всего жажда «все разделить», со всем породниться, «все понять, все соединить и… сделать речь столь же великодушной, как поцелуй». «Подлинные поэты, – напишет Элюар вскоре, в 1942 г., – никогда не думали, будто поэзия их личное достояние… Нет ничего редкостного, ничего божественного в повседневной работе поэта… Каждый человек – брат Прометея. Мы не наделены каким-то совершенно особым умом, мы – существа нравственные, и мы в гуще толпы».
Так завершается изживание тянущегося издалека квазисвященного жреческого самосознания лириков Франции в XX в.: Элюар здесь идет вслед за Аполлинером, но еще дальше, вплоть до уравнивания себя с другими полезны ми работниками на поприще истории.
«Полная песня», «Открытая книга. 1938–1941» – сами названия книг Элюара провозглашают открытость этой лирики для всех тех позывных из окружающего большого мира, к которым в прошлом он оставался глух. Тяга к все ленской широте в лирике, прежде делавшая ставку на кладовые грез, постепенно обретает источники своего питания в действительной жизни. «Дневной свет и отчетливое сознание поставляют мне теперь столько же тайн, столько же невзгод, сколько прежде ночь или сновидения». Мысль Элюара, рвущегося к ясности, вся в поиске прямых, непосредственных связей личности с природой и столь же очевидных связей с человечеством и каждым из живущих.
Все стало сразу проще
Я опрокинул необъяснимые пейзажи лжи
Я опрокинул жесты стертые и дни пустые
Я зашвырнул за край земли расхожих мнений жвачку
Я стал кричать
А до меня все говорили слишком тихо все говорили и писали
Слишком тихо
Я широко раздвинул границы крика.
И этот все нарастающий клич не остается, как прежде, гласом вопиющего в пустыне. Он повсюду рождает отклики, ведь сам он – лишь один из многих призывов в той братской перекличке, которую из края в край земли ведут люди, веками «восходившие по громадной лестнице радости».
Я убежден что каждую секунду
Дитя и предок всей моей любви
Моей надежды
Счастье
Фонтаном бьет из крика моего
К зениту в поисках другого зова
Чьим отголоском хочет стать мой зов.
В разомкнутой цепи элюаровского пантеизма «я – люби мая – мироздание» возникает потребность в еще одном звене – «звене братства». И пусть до поры до времени в самой лирике Элюара потребность эта лишь заявлена. Подлинное братство складывается в историческом бытии людей, будь то труд или гражданская деятельность, и добавление такого важного, по самой своей сути общественного «звена» неизбежно накладывает свой серьезный отпечаток на все соседние сцепления мировоззренческого ряда.